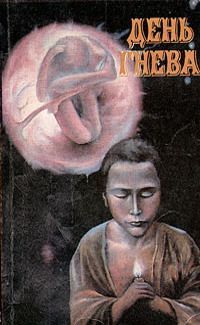Вера Галактионова - Четыре рассказа
— Санечка, давай с тобой полежим. Да, может, и соснём часок, — уговаривала его Софья Семёновна. Она подхватила Саню и положила на широкую кровать поверх одеяла. Саня радовался и жался к матери. А потом сказал:
— Зачем ты меня душишь? Мне так не нравится. Не души меня сильно.
— У тебя головушка ветром пахнет, Саня, — сказала Софья Семёновна. — Всё ты на улице бегаешь, − и легла вниз лицом.
— Ленинградский скороспелый… — бормотал Пётр Иваныч, заглядывая в пакет. — Всё же отдохнула ты теперь у нас, мать. Люди не дураки, конечно, что каждое лето отдыхают.
А Софья Семёновна не подняла головы.
…Она разбудила Колю, когда в комнате было ещё темно. Коля всё вспомнил.
— Умойся получше, — шёпотом велела Софья Семёновна Коле. — Быстро. Скорей.
Потом они бежали через пристанционную рощу. Софья Семёновна начинала говорить Коле, но не заканчивала и замолкала. И сильно тянула его за руку.
— Он про тебя всё-всё, Коля, знает. Он тебя даже и узнает сразу. Вот посмотришь. Теперь у тебя отец он будет, он будет отец… Ты большой, Коля, взрослый. Наш папа, он старый, он чего… Тяжело мне, Коля… Вот станешь большой, взрослый… Поймёшь, Коля, всё…Он же старик, Коля! Он хитрый. Старики — они х-хитрые!.. А я — молодая, глупее… Я же с вами осталась, с Лидой, с тобой — я бы разве подняла вас одна, без него? Вот я глупая была, а он, старый, уговорил…Нет! Жить по-другому надо, Коля. Что же у меня век-то пропадёт. Я же человек всё же… Да что ты падаешь, Коля! Брюки-то!..Вот сейчас ты его увидишь!
Потом они долго стояли на пустом перроне, и в сильном утреннем тумане было плохо видно всё далёкое. Где-то над путями по невидимым репродукторам гулко и неразборчиво перекликались-раскатывались мужские голоса и собирались ненадолго вместе. В прохладном воздухе свежо пахло шпалами. Софья Семёновна молчала, прижимая Колину голову к своему боку.
На перроне появились заспанные люди с чемоданами, раздутыми сумками, узлами. Людей и сумок становилось всё больше вокруг, и наконец показался надвигающийся из тумана состав с вишнёвым электровозом впереди. Софья Семёновна ещё крепче прижала Колю, неловко и больно завернув ему ухо, потом резко отпустила его и даже оттолкнула. И побежала вдоль состава. И Коля побежал за ней следом, за белым её плащом, натыкаясь на людей, задевая чемоданы и падая.
Потом они медленно шли назад, через ту же рощу. Вдруг Софья Семёновна сошла с тропы и села прямо на траву. Коля долго стоял, сначала — глядя на мать, потом — на бутылочный осколок, валявшийся в траве.
− Завяжи шнурки, — сказала Софья Семёновна, поднялась и быстро пошла вперёд. — У тебя шнурки развязались.
Коля нагнал её только на повороте, но всё равно шёл потом сзади. А она не оглядывалась больше.
…После утренней улицы дома было тепло и уютно. На столе уже стояла тарелка с нарезанным свежим хлебом и варёными яйцами. Просыпался Саня, но ещё ленился вставать с постели.
— Ну, где гуляли? — спросил Пётр Иваныч Колю.
Коля смотрел на него не мигая и не отводя взгляда.
— По роще походили, — весело сказала Софья Семёновна. — По свежему воздуху. У нас в доме отдыха всегда, утром, перед…
Она запнулась и села, не снимая плаща.
−…Ну что ж, ладно, мать, − Пётр Иваныч постоял без дела перед окном, потом отодвинул шторку. — Скоро чайник поспеет. Сходи, Коля, посмотри на керогаз. Как бы не вспыхнул.
Коля вышел в сени, плотно прикрыв за собою дверь. Потом смотрел на керогаз.
Над керогазом полыхало столбом высокое жадное пламя. Оно взвивалось, кидалось на дощатую стену, ползло по ней всё выше и норовило выскочить в большую щель под крышей, вслед за своим дымом. Оранжевый пляшущий свет заливал половину сеней, и в неровном этом свете тускло поблёскивали старые плошки и кривобокие тазы. С тихим шорохом коробилась, пузырилась клеёнка на сундуке под текучим голубым огнём. И всё вокруг осторожно потрескивало, шуршало и слепило.
Коля вернулся и сел за стол.
− Горит? — спросил Пётр Иваныч.
− Горит, − ответил Коля, смирно сложив руки на коленях и глядя перед собою всё тем же сонным взглядом.
− Не надо сутулиться, Коля, − сказал ему Пётр Иваныч. − Не приучайся.
Софья Семёновна сняла плащ, поправила волосы и вдруг взмахнула руками, и будто вскрикнула.
— Что ты, мать? — спросил Пётр Иваныч, не спеша расставляя стаканы.
— Да ты же у меня… Посмотри, в чём ты ходишь! Давай тебе костюм купим, а? — тихо заплакала она, — Ну что это ты в чём ходишь?!. Всю жизнь на огороде проползал, да разве же ты не заработал?!..
— Ну — будет, мать, — вздохнув, отозвался Пётр Иваныч. − Попа и в рогожке видать. Уймись. Не убивайся.
ТЁТКА РОДИНА
Комната всеми забытого и вконец одряхлевшего поэта Бухмина в бараке была самой крошечной, но имела отдельный вход, с торца. Размещалась в ней когда-то диспетчерская, в которой сидела кукушкою в тесных часах одна-единственная приятная девушка-латышка с крупными лопатками, похожими на небольшие крепкие крылья. Склонившись, она выписывала путевые листы шофёрам-целинникам, не обращая внимания на шутки ухажёров, на раскрытое своё зеркальце на столе и на солнечные зайчики, бегающие по её заранее разлинованным бумагам своевольно. А корреспондент Бухмин сочинил однажды в газету звонкие стихи о трудовой её старательности, от которой гуще и радостней колосились степные нивы, поскольку на посевную горючее доставлялось без промедленья: зерно снова легло в землю в благодатный срок. Да и сама послевоенная огромная страна оживала стремительно, и каждая отдельная добросовестная судьба, переплетаясь с другими такими же, питала собою единое древо − народный крепнущий организм.
Чёрные тарелки репродукторов на столбах передавали утренние сообщения о новых снижениях цен. Они пели на всю улицу задушевные песни о всеобщем счастье, о верной любви, о нерушимой дружбе между народами, а иногда читали дикторским голосом стихи поэтов-фронтовиков, в том числе и Бухмина: «Восходит солнце из-за горизонта, собою украшая небеса, глядит − и не насмотрится на наши родные горы, степи и леса…»
Гораздо тише сообщал, пел, читал всё это и белый репродуктор-коробок над головою девушки-латышки. Но тесную диспетчерскую со временем перевели в жилищный фонд, и в неё попал через много-много лет, словно в клетку, сам забытый всеми поэт. А как произошло его несуразное переселение из квартиры приличной, большой, полученной когда-то от редакции, древний Бухмин толком не понял до сих пор.
* * *
Сразу после смерти его фронтовой подруги и жены Лизы какая-то молодая толстощёкая женщина с плоскою обширной спиной вдруг решительно взяла Бухмина под руку, ещё на кладбище, и уж потом не отпускала больше до самого дома. Она осталась с ним, овдовевшим ветреной прошлой весною, в осиротевшем его жилище.
Бухмин не замечал её поначалу, потому что думал: каково-то сейчас его старенькой жене одной, под землёю. Его удручало, что там всегда темно: бесстрашная снайперша Лиза не боялась на свете ничего, кроме сырой темноты и холода…
Толстощёкая молодая женщина с плоской спиною тем временем ладонью стирала пыль с его дубового письменного стола, и тою же ладонью гладила Бухмина по голове, и лежала какое-то время рядом с ним, в спальне, не сняв широких лакированных туфель с кожаными чёрными бантами у щиколоток.
Помнится, он даже расплакался вдруг. Да, он повернулся к ней, чтобы произнести только что придуманные строки − о женщине-воине, ушедшей из белорусских сумрачных болот в окончательную степную тьму. В тех болотах его молодой Лизе пришлось лежать две ночи напролёт в ржавой холодной воде… Но толстощёкая женщина широко зевнула, дрогнув красным языком, и встала.
Он поплёлся за нею следом, на кухню, выговаривая сокровенные слова поэмы с долгими паузами и тщательным раздумьем: угодил он Лизе или нет… Женщина тем временем жарила картошку, ела её, золотистую, горячей, нарочно громко стуча вилкою по сковороде. То, что Бухмин пытается разговаривать с нею, женщине решительно не нравилось.
Потом женщина утёрлась Лизиным передником и сказала, бросив его в угол, что дома ждёт её муж-сварщик, который режет роторный экскаватор на металлолом.
* * *
Исчезнув на пару месяцев, молодая женщина появилась снова. Она прошагала в своих лакированных плоских туфлях вокруг поэта, обойдя его, словно безмолвное высохшее дерево, затем остановилась и сказала, приблизив лицо к лицу, что у неё и Бухмина будет крошка.
− Но почему не от сварщика? − испугался дряхлый Бухмин, голова его затряслась от волнения.
− Ах! Подлец! − прокричала тогда женщина, отстранившись. − Это ты не хочешь нам помогать!
− Кому − вам?!