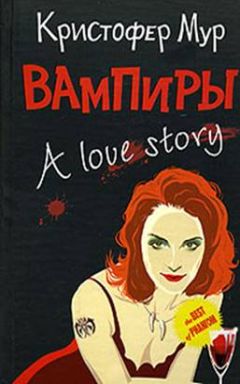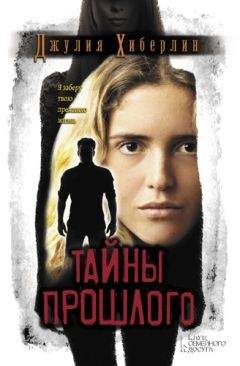Дрисс Шрайби - Осел
Из толпы зевак отделилось несколько оборванцев "мальчишек и почтенный старец в чалме, ехавший на велосипеде. Они направились было вслед за человеком и его ослом, но, проделав сотню метров, остановились: право, надо было лишиться рассудка, чтобы бежать или работать педалями по этой накаленной добела пыли. Тогда ребятишки, хохоча и прыгая, окружили старца, а он схватил обеими руками велосипед и принялся размахивать им как половиком, чтобы разогнать их, словно назойливых мух. Вечер застал старца чинно восседающим на своей машине, а мальчишек — слушающими его на корточках посреди тротуара; смеясь и перебивая рассказчика, они хором уличали его во лжи к удовольствию полусотни зевак, внимавших повествованию о том, как какой-то человек содрал кожу с черта, а тот преследовал его на четвереньках по адской жаре.
Всем, кто видел, как человек с дорожной сумкой сел в последний вагон поезда (поезд только что подали, но этот вагон был уже битком набит мужчинами, женщинами и детьми с узлами и домашней птицей, связанной лапками, тогда как на перроне гудела, верно, с утра, а то и с вечера толпа родственников, друзей и знакомых со всей округи — целое племя, сидевшее или лежавшее прямо на перроне; некоторые прихватили с собой настоящие матрасы с настоящими подушками и, устроившись на них, кололи молотком сахар и бросали кусочки в дымящиеся чайники, выкрикивая тем, кого они пришли провожать, последние наставления, последние приветствия, а иногда для большей убедительности посылали в вагоны проворных и шустрых детишек, и те вовсю развлекались, карабкаясь по ступенькам со стаканчиками чая в руках, позволяли пассажирам похлопывать их по голове и возвращались обратно с пустыми стаканчиками), итак, всем, кто видел, как человек с дорожной сумкой поспешно сел в последний вагон, а перед дверцей остановился как вкопанный осел, пришла в голову одна и та же мысль: «Либо это погонщик ослов, пришедший в последнюю минуту проводить кого-нибудь из друзей, и в таком случае он скоро выйдет из вагона и сядет верхом на своего осла — но тогда почему он не приехал на нем сюда? Либо это отъявленный плут, который обведет вокруг пальца железнодорожную компанию и провезет осла у себя на коленях, словно какой-нибудь тюк».
Так думали люди. И едва этот человек вошел в вагон, все зашушукались, заговорили, заспорили, обсуждая его поведение. И сразу словно не стало ни других пассажиров, ни провожающих. Казалось, все внимание обращено лишь на этого человека, и он один вызывает всеобщее любопытство, лихорадочное возбуждение и страстные, нескончаемые пересуды. Потом внезапно сгустились сумерки, замигали фонари и поезд тронулся под грохот и лязг железа.
* * *Его звали Мусса. Он не ведал о том, что живет. У него не было ни малейшего представления о мире, в котором он однажды родился, (по всей вероятности родился, ибо он ничего не знал ни о своих родителях, ни о родичах, а если таковые и были, в долгу перед ними себя не чувствовал), о мире, где вырос и окреп, как ствол дерева, ни о чем не ведая, словно зрелость не коснулась его полурастительной, полуживотной жизни. По горам и долам, под раскаленным, как расплавленный свинец, солнцем или под проливным дождем он с поразительной легкостью, точно слой воздуха, преодолевал верхом на своем осле пространство и время, питался лишь бобами, бататом или кускусом, спал, когда удавалось, сном праведника, намыливал голову всем без разбора одним и тем же куском марсельского мыла (этому куску, казалось, не будет конца, как, верно, не было начала), брил людей наголо неким подобием бритвы, у которой после употребления тщательно, до блеска, полировал роговую ручку. Лезвие же Мусса никогда не точил и не шлифовал.
Мусса думал редко. Глаза его были какими-то мутными, будто все в них смешалось: и роговица, и зрачок, и радужная оболочка, как в плохо приготовленной, недожаренной яичнице. Когда же он изредка задумывался, радужная оболочка его глаз внезапно становилась ясной, блестящей и очень черной, как будто все изменил всемогущий нож волшебного хирурга. И тогда в его глазах, в его голосе, в его напрягшихся от волнения нервах начинала бушевать неистовая сила человека, неожиданно проснувшегося, как дерево после зимнего оцепенения. «Нет, я не смешон, — кричал он тогда, обращаясь к любому предмету или существу, чаще всего к своему ослу. — По-вашему, я смешон, оттого что у меня нет бороды, но есть усы. Э, нет! Я не козел. Я лев. У львов имеются усы, но нет бороды».
Осел ревел, и пыл Муссы постепенно угасал, словно свеча, угасал надолго — на месяц или на год.
Шли годы, менялись времена, одни люди вытесняли других. А Мусса все брил, ел и спал — он словно застыл на месте. Казалось, он ни молод, ни стар — так, верно, брили, ели и спали все цирюльники еще в царствование Мулая Исмаила или даже во времена вестготов, — он был неизменен, как земля Шауйя, которая с незапамятных времен родит все тот же ячмень. Проложили дороги, но Мусса не заметил этого. Его осел трусил рысцой по тем же вековым извилистым тропам. Завывание автомобильных гудков, грохот колес и новостроек, где раздавались громкие голоса бригадиров, лязг и треск тракторов, поднимавших облака красной, как и земля, пыли, скрежет скалы — ее бурили в поисках воды, нефти или минералов, она пронзительно выла, словно ее резали по живому телу, — оживленные города, которые внезапно возникали на пустынных землях, бетонные арки, стремительно перекинувшиеся с одного берега реки на другой, некогда тихие и мирные бухты, превратившиеся в шумные порты, где работали гигантские подъемные краны, тарабарщина морского жаргона, вой сирен — эта перекличка судов — все было похоронами прошлого, которое заколачивала в гроб эта грохочущая механика, рождением будущего, неосознанным пробуждением души целого народа. И во всем этом Мусса не участвовал и даже не был тому свидетелем. Он ничего не увидел, ничего не услышал, ничего не узнал. Чтобы побрить голову клиенту, не надо много знать, разве что выяснить, в каком селении ты остановился, сколько здесь голов скота и сколько его пало, да порассказать свои невероятные цирюльнические истории, потолковать о Коране, а заодно припомнить притчи Соломона и народные песни. Когда же приходилось напрягать ум, Мусса словно пробуждался, чувства его обострялись, но длилось это недолго — ровно столько, сколько продолжалась его краткая речь. Потом его сознание, глаза и уши как бы захлопывались, словно за минуту перед тем принадлежали не ему, а какому-то дьявольскому существу из адского будущего, в которое Мусса как бы нечаянно заглянул, и он опять становился символом Неизменности, символом Священной книги, где говорится: «Ничто не может быть сотворено в мире, сотворенном богом». Но теперь знание вошло в него, еще более неумолимое, чем память, знание о чем-то таком, чего он, вероятно, не видел, но что, несомненно, существовало за пределами и, быть может, внутри этого мира, знание, сопровождаемое сомнением, любопытством, страхом. В то раннее утро, когда он увидел, как мчится по рельсам поезд (состав пронесся, а Мусса еще долго смотрел ему вслед, выпрямившись во весь рост на осле и вдев ноги в стремена), так вот, в то раннее утро он понял с такой же молниеносной быстротой, с какой промчался этот стальной метеор, что Книга пополнилась новой главой, в которой сказано, что Муссе надлежит сложить свою бритву и похоронить ее в мусульманской земле.
Теперь головы клиентов казались ему непослушными и безобразными. Рассказывая свои басни, он думал, что они уже никого не занимают, и замирал с бритвой в руке над сидящим на корточках клиентом: ведь он рассказывал свои сказки главным образом для себя, и если люди смеялись или толковали про услышанное, то, возможно, размышляли при этом, скажем, о трехлемешном плуге, который скоро заменит старую деревянную соху, или потешались просто так при виде старомодного цирюльника, конечно человека умелого и почтенного, но которого давно пора сдать в архив как сентиментальную и нелепую намять о прошлом. Да и сам он перестал уже слушать то, о чем говорил.
Однажды вечером бритва выпала у него из рук, и Мусса не поднял ее. Пригнувшись, он собирался выйти из палатки и вдруг замер на месте, словно пригвожденный к земле лунным светом. Позади него хлопал ушами осел и шипела, посвистывая, карбидная лампа. Мусса вышел из палатки, распрямился и только тогда увидел при свете луны какого-то человека с белой от мыльной пены головой и с полотенцем вокруг шеи, который что-то кричал и размахивал руками. Но и тут Мусса ничего не понял. А когда оба они прогнали прочь осла как нежелательного свидетеля и, войдя в палатку, стали вдвоем стирать мыльную пену с головы клиента и встряхивать карбидную лампу, чтобы она лучше разгорелась, человек продолжал что-то кричать, но Мусса по-прежнему ничего не понимал.
* * *Сухощавый, степенный и чинный, с львиными усами, в синем, как у механика, комбинезоне, с кожаной дорожной сумкой, он стоял у дверцы вагона, словно собирался открыть ее и спрыгнуть вниз, или только что успел войти, и не сходил с места с тех пор, как поезд тронулся. Два или три раза ему громко предлагали ящик или узел, чтобы он мог присесть, но он, казалось, ничего не слышал. С головокружительной быстротой исчезали столбы, пилоны, деревья, и Муссе чудилось, что их поглощает он сам, могущество внезапно разбуженного в нем человека, обнаруженное им в тот далекий и вместе с тем недавний вечер в палатке, — как будто крики, а потом терпеливые объяснения клиента, которому он хотел брить голову, были гласом божьим. Да, это его могущество приводило в движение и заставляло бежать на всех парах металлическое чудище, это его нервы, а не колеса вагона пели песню его новой торжествующей жизни. «Да, — объяснял ему тот человек, — волосы бреют теперь только на затылке да за ушами. Остальное не трогают. Вот именно, мужчины еще не совсем превратились в женщин. Даже собак стригут в наши дни иначе — до середины хвоста и до колен. Как знать, может быть, и овец станут стричь таким же образом».