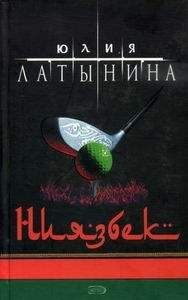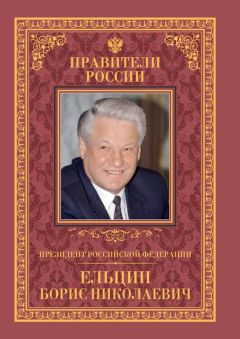Джозеф Хеллер - Портрет художника в старости
— Мама хочет, чтобы вы вернули деньги, — соврал он, глядя невинными глазами на продавщицу. — У нее счет в вашем магазине.
Через много лет Эрвин вспомнил желтую канарейку и назвал случившееся своим первым соприкосновением со смертью. И первой выгодной сделкой. И первым удачным обманом. Он так легко сплутовал, что решил смошенничать еще раз, когда потребуют обстоятельства. Как и Том Сойер, он был мастак по части плутовства и до сих пор ни разу не попал в беду из-за своих проделок. Как последний пижон, он считал себя неуязвимым. Когда его избрали президентом США, он наперекор логике присвоил себе кодовое имя „Желтая птица“.
— Куда подевалась канарейка? — спросила вечером мама. — И где клетка?
У Эрвина не было другого выхода, как признаться.
— Она не хотела петь, — ответил он, — и я отнес ее обратно в магазин. Они возвратят деньги.
— Вчера она пела, — заметил старший брат.
— А сегодня расхотела.
— Почему продавщица не поменяла канарейку на другую, которая поет?
— У них больше нет канареек.
— Разве ты не мог подождать денек — может, она бы запела.
— Она умерла, — сказал Эрвин.
— Умерла?!
— Да, так сказали в магазине.
— Как тогда наша собака. Чуть не умерла, — фыркнул брат. — Ты запер ее в машине и забыл.
— Но собака же не умерла, — возразила сестра, которая обожала спорить со старшим братом.
— Да, не умерла, потому что я заметил, что ее нет с нами. Остальным было до лампочки.
Сорок пять лет спустя трусливо запершийся в Белом доме, как в осажденной крепости, и ожидающий унизительной процедуры импичмента, он вспомнил штуку с канарейкой и в очередное сбивчивое, уклончивое, лицемерное, жалостно-виноватое выступление ни с того ни с сего вставил стихотворные строки какого-то забытого им поэта, на которые он наткнулся неизвестно где и неизвестно когда: „Пусть птаха малая научит меня петь, и я не покушусь на блеск бесчисленных созвездий“. Прозвучало великолепно, подумал он, и, окрыленный, вознесся в эмпиреи изящной словесности и искусства. На ум пришло изречение, которое у него почему-то ассоциировалось с Элеонорой Рузвельт: „Лучше зажечь свечу, чем проклинать темноту“. Экспромт показался ему удачным, и, еще не закончив выступления, он уже грелся в лучах своей учености.
Но его советники и спичрайтеры были в ужасе. С беспомощным отчаянием они смотрели друг на друга, не зная, что делать. „Откуда только взялся этот поц?!“ — развел руками один из Нью-Йорка. Другой, пробормотав извинения, кинулся вон: его тошнило.
— Для человека, которого считают толковым политиком, твой отец иногда просто глуп, ты не находишь? — спросила жена Эрвина, смотревшая выступление мужа по телевизору.
— Я и сама это заметила, — отозвалась его дочь.
Потом Эрвин легко отмел их неприятные вопросы и выражения неодобрения. Он знал, что может рассчитывать на свою семью. Предстояли трудные времена, но семья сплотится вокруг него. Хорошо, что у него нет фамильной собственности. Им просто некуда деться. Им негде жить, кроме как в Белом доме. Вместе с тем плохо, что у него нет фамильной собственности и в ближайшие два года ему тоже негде жить, кроме как в Белом доме, жить на смешное жалованье, если учесть, какую кучу дел приходится делать, какое давление со всех сторон выдерживать и какие бешеные налоги платить, поскольку систематическое начисление оных происходит под бдительным оком общественности. Впрочем, если ему удастся эти два года удержаться в кресле, он выйдет в отставку с какой-никакой пенсией и даже аурой респектабельности. С другой стороны, он подумывал и о том, чтобы уйти сейчас, уйти по-тихому, спустить дело на тормозах, пожертвовав, разумеется, частью своей чести, при условии, что его грехи будут помнить не дольше, чем грехи его предшественников и прочих политических проституток в Вашингтоне, и что ему обеспечат приличное жилье и разумный пожизненный пенсион, который позволит смотреть на вещи проще и регулярно тусоваться на национальных траурных церемониях, куда как воронье слетались другие здравствующие экс-президенты, такие же тупые пустомели, как и он сам. Он был между молотом и наковальней, нет, лучше сказать, между скалой и твердыней — это образно и не так избито, надо будет использовать в очередной публичной речи, — но Эрвин не сомневался, что все образуется, что „дорога трудна, но дорогу осилит идущий“, как он любил повторять, и что он и правда, истинная правда, непременно…»
Господи, ну и бред! Нет, к чертям собачьим, решает он. Ничего стоящего из такого материала не выжмешь.
И вообще — кому это нужно? Еще один политический фарс, еще одна слезливая семейная сага? Серьезный роман, изображающий продажных вашингтонских шутов гороховых такими, какие они есть на самом деле, невозможен по определению. И оригинальным такой роман не может быть, и увлекательным быть не может. Нелепым, бессодержательным, банальным — пожалуй, но только не серьезным, да и такого пошлого чтива наиздавали — завались. У кого есть хоть крупица совести и соображения, тот ни во что не ставит болванов из высших сфер и уж тем более не ожидает от них ничего хорошего. Кроме того, у него было ощущение — нет, не ощущение, он твердо знал, что так или иначе затрагивал эту тему в каком-то из прежних своих сочинений. Последнее время его часто угнетала горькая мысль, что он по крайней мере однажды уже писал о том, о чем пытался писать теперь. Он не желал повторяться и поэтому не знал, кому еще попробовать подражать. Ленивым, почти машинальным движением он отодвинул блокнот и шариковую ручку, тяжело дыша, но не слыша своего дыхания, поднялся из-за стола, растянулся на диване, стоявшем тут же, в кабинете, и закрыл глаза. Ему вспомнилось, что, когда он был молод и в форме, самые удачные сюжеты и слова, бывало, приходили к нему именно в лежачем положении. А также самые неудачные, хмыкнул он про себя, вроде последних и предпоследних.
Ну хорошо, а что дальше?
Ремесленник, у которого за плечами достаточное количество прожитых лет, особенно сочинитель вымышленных историй для печатной страницы и для сцены, может достичь такого возраста, когда не способен написать ничего нового, но все-таки хочет писать и писать. Музыканты горько шутят, говоря о последних сочинениях рано умершего Моцарта, что ему следовало умереть еще раньше. Зато Шекспир знал, когда надо уйти. «С пирушками теперь покончено», — писал он в «Буре» и отбыл с нажитым добром в Стратфорд, предпочтя скромную жизнь помещика вакханалии театральной жизни в Лондоне, для которой, как можно заключить, он стал слишком стар. Человек, еще в молодости проницательно заметивший, что «вино усиливает желание, но мешает исполнению оного», по собственным эскападам знал, что годы, проведенные с вином либо без вина, ослабляют само желание, а также притупляют многолетнюю жажду театрального успеха, в основном давно достигнутого. Да, Верди сочинил великолепного «Отелло», когда ему было за семьдесят, но он был великий композитор и величайшее исключение из правила. Большинство же из нас утрачивают творческие способности с возрастом и с накопленным опытом. Профессиональные навыки отнюдь не облегчают работу, и когда мы перестаем писать, то начинаем внезапно и мучительно испытывать на себе бремя свободного времени, которым не научились распоряжаться.
Наш герой не был великим писателем и не был исключением. Он был одним из многих, кто не хотел бросать. Он не знал, куда девать досуг. Ему не оставалось ничего лучшего, как пытаться писать роман, потом еще один, потом еще. Почему он это делал? Когда его спрашивали, работает ли он над чем-нибудь новеньким, он с сардоническим смешком называл причину. Конечно, отвечал он, ведь ему не остается ничего лучшего. Ответ принимали за оригинальную шутку. Но сам-то он знал, что это — чистая правда. У него действительно не было выбора. Как и другие, отмеченные тем же высоким призванием, он не мог придумать, чем еще занять себя, чем увлечься или развлечься. Охоту он считал зверским занятием, рыбную ловлю — глупым: рыбу всегда можно купить. Теннис, гольф, лыжи, хождение под парусом отнимали порядочно времени, но он считал их, как и танцы, нестоящими забавами для вдумчивых людей. Может быть, пешие путешествия. Но он не любил ходить пешком и боялся физических нагрузок и неудобств. Он не без оснований предполагал, что даже Хемингуэй считал дни между охотничьими и рыбачьими вылазками обременительно-бесплодными, а падение интереса к нему со стороны публики и критики воспринимал как нечто невыносимое, ужасное. Парадокс литературного творчества в том и состоит, что чем отточеннее перо и несомненнее успехи, тем труднее пишется — для доказательства загляните в заключительные главы биографий знаменитых авторов, — и если человек осмеливается «завязать», на него сразу же наваливается тяжесть свободного времени, которое надо заполнить каким-то образом. Минуты томительно тянутся часами, дни тщетно тащатся, как годы. Даже супружеские измены отнимают меньше дневных и предвечерних часов по мере того, как страсть уступает место влечению, а влечение — ностальгическим ламентациям о былом. Особенно после неизбежного переезда в деревню, где гораздо меньше возможностей, а трудностей, понятно, куда больше. Даже у самых крупных и непререкаемых литературных авторитетов в поздние годы бывает спад, и они погружаются в тоску и отчаяние, которые зачастую означают конец игры.