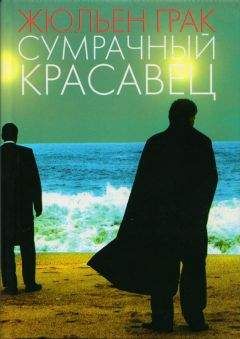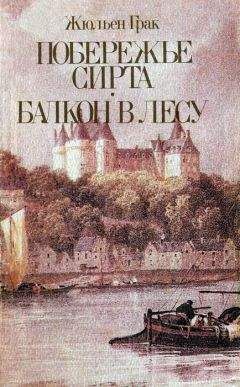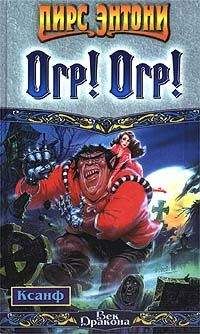Жюльен Грак - Замок Арголь
Сам Грак, среди прочих ключей для разгадки своего эзотерического произведения, дает одно истолкование, которое в равной степени может и приоткрыть завесу над тайной произведения, и вконец запутать читателя, «…если этот незначительный рассказ мог бы сойти всего лишь за демоническую (…) версию шедевра…» — читаем мы в предисловии к роману, где Грак, конечно же, говорит о вагнеровском «Парсифале».
Но здесь нам следует сделать небольшое отступление и вернуться к обстоятельствам, предшествовавшим созданию книги. 28 января 1929 г., в день Карла Великого, лицей Генриха IV дарит воспитанникам выпускных классов билеты (на выбор) на оперу «Князь Игорь» А. Бородина и «Парсифаль» Рихарда Вагнера. Ученику Луи Пуарье (настоящее имя Жюльена Грака) в это время 1 8 лет. Он еще ничего не знает ни о Бородине, ни о Вагнере, ни о Парсифале. Но имя средневекового рыцаря привлекает его своей звучностью. Он выбирает Вагнера — и так происходит одно из основных открытий в его жизни, определившее весь его дальнейший литературный путь. «Для меня существовал По, когда мне было двенадцать лет, Стендаль — когда было пятнадцать, Вагнер — в восемнадцать, Бретон — в двадцать восемь», — напишет он позднее в «Комментариях» («Lettrines»).
Благодаря вагнеровским драмам — «Парсифалю», а затем и «Лоэнгрину» — Грак начинает интересоваться мифом о священном Граале. Он читает в переводе «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, который был основным источником либретто оперы Вагнера и который впоследствии станет также основным источником единственной пьесы Грака «Король-рыболов», читает рассказы артуровского цикла в изложении Кретьена де Труа. Но одновременно Грак начинает переосмысливать саму легенду, равно как и оперу Вагнера в своеобразном ключе. Дело в том, что лирический театр Вагнера открылся ему почти одновременно с поэзией сюрреализма, когда он прочел «Манифест сюрреализма» Андре Бретона, его же роман «Наджа», «Парижского крестьянина» Луи Арагона и проч. Совпадение по времени этих двух основных открытий способствовало, как считают многие критики, зарождению в его сознании аналогии между содружеством сюрреалистов (группой Бретона) и рыцарями Круглого стола, между устремлениями сюрреализма — и поиском священного Грааля. И действительно, в эссе «Андре Бретон», которое Грак позже посвятит лидеру сюрреалистов, он рассмотрит полный случайностей и превратностей путь сюрреализма как современное воплощение поисков Грааля. Но эта же аналогия, возникшая в его сознании в самом начале творческого пути, заставила его, в свою очередь, увидеть, что поиск священного Грааля, как и поиск сюрреалистов — предприятие исключительно земного характера, имеющее мало общего с христианской догмой об искуплении.
«Отношение сюрреализма к христианству, — писал он, — не может не быть и всегда было отношением объявленной и тотальной вражды. Потому что христианство всеми своими запретами и всяческого рода табу, которые оно всегда накладывало, систематически ограничивает свободу человека во всех областях, которые кажутся сюрреалистам основными в деле овладения своими правами. Потому что именно в соответствии с известной формулой «здесь и сейчас», а вовсе не в гипотетическом «там» сюрреализм всегда желал свершить задачу завоевания сюрреальности. Наконец, потому, что понятие первородного греха, оправдывающее в нравственном плане беспомощность и ограничения, невыносимые для духа, во всем противостоит состоянию перманентного бунта, оправданного исступления, в котором сюрреалисты видят свой наиболее эффективный рычаг».[4]
Именно в этом ракурсе Грак всегда будет развивать свою интерпретацию легенды о священном Граале. Сначала он попытается доискаться до языческих корней легенды, освободив ее от христианской экзегезы, которая, как он считает, лишь затемняет смысл (еще в 1976 г. он скажет Жан-Луи Эзину: «В этой теме языческого происхождения меня в основном интересует то, что в ней заложена очень конкретная мысль о возможности поиска»[5]). По той же причине в предисловии к роману «Замок Арголь» он восстает и против христианского истолкования оперы Вагнера, видя в том профанацию мысли композитора. «Творчество Вагнера завершается поэтическим завещанием, которое Ницше в великом своем заблуждении слишком легко бросил на растерзание христианам, взяв на себя таким образом серьезнейшую ответственность за то, что завел критиков на путь изысканий, очевидно поверхностных», — пишет он в «Обращении к читателю», идя на самом деле вразрез с творческой интенцией самого Вагнера, признавшегося однажды герцогу Людвигу Баварскому: «Мне кажется, что это произведение было нашептано мне Святым Духом, чтобы сохранить для мира свою самую глубокую и сущностную тайну, наиподлиннейшую христианскую веру — да что я говорю, чтобы пробудить эту веру к новой жизни» (письмо от 1 августа 1 873 г.).
Для Грака же было важно отойти от трансцендентности и сохранить то, что и составляло символическую и поэтическую силу легенды о священном Граале. Словно необходимо было сначала избавиться от всего, что связывало легенду с христианством, чтобы затем восстановить ее сакральный смысл. Писатель всегда подчеркивал, что мотив поиска носил для него глубоко личностный характер: «Речь идет о проявлении, — писал он Бретону, — в современной ментальности тех же бурлящих чувств, которые когда-то одушевляли эпического героя: ощущение «ведомости», отдачи себя в руки сверхъестественных (или сверхреальных) сил и перехлестывающее через край пережитое чувство чудесной возможности».[6] Именно об этой «чудесной возможности» говорила Граку музыка Вагнера, в которой он еще в юности предугадал образы собственного художественного мира: лес, в котором человеку так легко потеряться, шум моря, слышимый в отдалении. И все эти мотивы объединялись одной общей темой — поиска священного Грааля.
При этом если Грак и замыслил свой первый роман как «демоническую версию» оперы Вагнера, то само романическое повествование он вряд ли организует как парафраз «Парсифаля». Ни интрига, ни распределение ролей не совпадают: Герминьен мог бы быть королем Амфортасом, но по сюжету романа хозяином замка является Альбер. Пожалуй, именно Гейде в наибольшей степени унаследует черты вагнеровской героини Кундри (персонаж, вместе с которым Вагнер ввел в оперу также и понятие плотского греха), однако в Гейде отчетливо проступают не только черты Кундри, но и приметы священного Грааля (не случайно в романе она сравнивается с «кровяным столпом»). На самом деле легенда о Граале была для Грака не моделью романа, но скорее — его эмблемой. Последнее становится очевидно лишь в финале, в сцене, где Альбер рассматривает гравюру, изображающую тайну священного Грааля (Парсифаль касается копьем бедра короля Амфортаса). Именно посредством гравюры, рассказывающей о страданиях Амфортаса, тема священного Грааля вводится наконец эксплицитно в роман. И тогда получается, что именно гравюра дает ключ к разгадке той сложной ассоциативной символики, которая распылена по страницам романа и получает свое смысловое единство лишь а posteriori[7]. На самом деле этот прием восходит к характерному для немецкого романтизма принципу повествования, строившемуся как цепь событий, связь между которыми оставалась не слишком понятной для читателя (см., например, новеллу Л. Тика «Белокурый Экберт», «Золотой горшок» Э.Т.А. Гофмана и его же роман «Эликсиры сатаны»). И лишь в конце давался ключ, как правило, в виде вставной новеллы, где вскрывались давние предпосылки чудесных обстоятельств настоящего времени, что, в свою очередь, сообщало особую внутреннюю логику тексту.
Так и у Грака мотив раны, намеченный уже в сцене первого поцелуя, вырванного Гейде у Альбера, повторяется затем в сцене изнасилования Гейде, позже-в сцене появления Герминьена, раненного в бедро копытом коня, — все это объединяется и находит объяснение в гравюре, отсылающей, в свою очередь, к опере Вагнера. Вспомним, что в опере Клингзор застает Амфортаса в объятиях Кундри и ранит его копьем, которое когда-то пронзило Христа. Именно это событие навсегда помещает Амфортаса между жертвоприношением Христа и раненой плотью как символом содеянного греха. Однако у самого Вагнера доминирует фигура Искупителя. Парсифаль закрывает рану (эмблему проклятия и спасения), утоляет страдание и искупает мир. Именно здесь Грак удаляется от Вагнера и от его христианской символики: абсолютного спасения нет, абсолютного проклятия тоже нет, но есть стигмат, который становится символом желания, а рана принадлежит отныне женщине, одновременно носящей ее в себе и наносящей. Именно это странное тождество и утверждается в романе в сложнейшей зеркальной игре культурных реминисценций.
И тогда становится также понятным происхождение странных предметов в главе «Часовня над бездной» — шлема и копья. И получается, что аргольские персонажи сталкиваются с теми же проблемами, что и действующие лица легенды: спасения и проклятия, амбивалентность и взаимоподменяемость которых также являются дополнительным ключом к разгадке тайны. В углу гравюры — так описывает Грак — фраза: «Искупление Искупителю». На самом деле это — финальные строки «Парсифаля», венчающие оперу и увенчивающие поиск, означающие овладение священным Граалем и очищение мира. У Грака те же слова говорят о другом: не успокоение желания, но его постоянство, не свершение, но ожидание и вечное повторение, и ежесекундное начинание обета. Потому что завоевание священного Грааля уничтожает желание, свершение перечеркивает возможность — мысль, дорогая Граку, унаследованная им во многом от одного из его любимейших немецких писателей Новалиса[8].