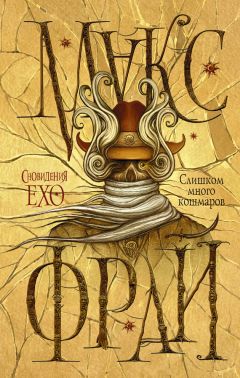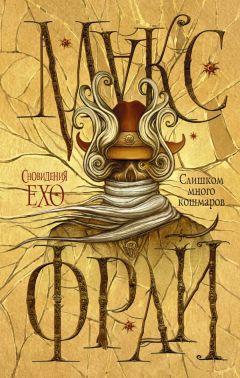Игорь Фролов - Летать так летать!
А когда она придет, пахнущая морозными свеженапиленными досками и печным дымком, от которого схватывает дыхание, я снова, как шар, направленный в лузу точной рукой, закачусь не в свою простывшую комнату, а в тот деревянный дом на окраине, где топится печка, в комнате греется широкая кровать, и молчаливая хозяйка, улыбаясь, накрывает на стол, вздрагивая, когда слишком близко у окна проскрипят чьи-то валенки. В первый раз, уходя рано утром на цыпочках с ботинками в руках, я вообще не думал, что вернусь сюда, — тем более неожиданно встретив взгляд вышедшей из соседней комнаты бледной, голенастой, в короткой ночной рубашке и все понимающей ее дочери. Но теперь, куря на корточках у малиновой печной дверцы и глядя, как дым голубой струей утекает в поддувало (печка не кашляет, приученная к папиросам моих предшественников, и мне это вовсе не противно), — теперь я думаю, что мне совсем не хочется возвращаться к своему столу, заснеженному чистой бумагой, — а снег с каждым днем все глубже, и все труднее думать, как я, отяжелевший, начну путь, проваливаясь по колено, по пояс, по грудь и оставляя не изящную птичью клинопись, но медвежий развал. Хочется мне, разморенному теплом, остаться здесь на вечное поселение, быть учителем в местной школе, а вьюжными вечерами помогать дочери делать уроки, подшивать прохудившиеся валенки, курить у печки, в которой сгорают наколотые мною дрова, — и думать о лете, о том, как буду искать в окрестной тайге большой черный камень (не надрываться же нежной женщине с доставкой), который по истечении полувека и увенчает мое существование здесь…
Но в разгар зимы вдруг случится странный сбой. Вынужденно прервав свои никому не слышные гаммы, я всего на день покину свое теплое снежное логово и перелечу немного южнее, ближе к большой реке, другой берег которой уже не мой, — он узкоглаз, улыбчив, и ему нельзя доверять. Здесь нет тайги, здесь мелколесье и степь, — ветра выдувают снег, и февральские дороги дымятся холодной пылью, а рыжая высокая, по грудь, трава сухо шуршит, — и, пробираясь в сумерках по мерзлым кочкам среди ломких стеблей и осыпающихся метелок, растирая пальцами и нюхая желтую пыль давно погибшей осени, я снимаю жаркую меховую куртку, глотаю поднимающийся к ночи ветер, и хочется кричать от тоскливой радости зимнего зверя, вернувшегося на забытую родину и никого из прежних не нашедшего, кроме их смятых и уже заиндевевших лежбищ в этой траве… А рядом темными силуэтами через поле к теплу движутся те, кто вместе со мной завершил этот день, — они подсвечивают фонариками небо, они переговариваются и смеются, и я, такой же темный и равный в этой темноте, отвечаю им и смеюсь, не выдавая своей отдельности, своей уже понятной мне тревоги. Так ничего и не исполнивший из обещанного, ничего не отработавший, — но потерявший право на общие воспоминания с теми, кто уже совсем в других краях, теперь я знаю, что вернусь в снега только затем, чтобы, дождавшись весны, выйти ранним утром из дома, вдохнуть полной грудью запах талых помоек и, завернув за три угла времени, снова оказаться в моей осенней комнате. Здесь уже посветлело окно, и кто-то спит за столом, грея щекой исписанный лист. Вставай, наблюдатель, — нам пора…
На охоте
Этот рассказ — начало истории «Парадоксы войны» из «Бортжурнала» и пример недосказанности «Избранного».
…Им было все равно, кого искать. Летели на восток, все дальше углубляясь в дикую, неприрученную зону чужой страны. Рыскали над бесхитростными речными долинами, ныряли в тесные, до краев налитые тенью ущелья и, выпадая в пустыню, неслись, припав к земле и пугая пулеметными очередями летящие мимо мертвые кишлаки. Поднималось алычовое солнце, пели винты, — а в грузовой кабине тошнило навьюченный оружием досмотровый взвод. Сейчас, ради передышки на твердой, надежной земле, этот натасканный на караваны зверь был готов обнюхать даже одинокого путника — и уже скребся в дверь, что-то почуяв…
Путников было трое. Они стояли на берегу иссыхающей речки и ждали, привычно подняв руки. Стрелок снял пулемет с упора, повернул его рыло к людям — на тот невероятный случай, если они захотят пожертвовать собой. Снижались, надменно задрав нос, осторожно, как дама в воду, ступили на песок. Сосредоточенно совершая подскоки и перемещения в поисках плотной почвы, фаршированный солдатами дракон просто скрывал смущение, стыдясь своей мелочности. Наконец утвердились. Дверь отъехала, и на землю попрыгали несколько солдат. Постояли, жмурясь на солнце, и двинулись. Шли, не снимая с плеч автоматы; зевая, поглядывали по сторонам, попинывали песок, переговаривались — ленивые грибники, которым совсем нет дела до тех троих. Уже потом, через секунду, сочиняя причины, стрелок приписал утерянному клочку времени этот звук, придумал хлопок, приглушенный винтами. Солдаты от неожиданности остановились и смотрели…
Человек убегал к холмам. Он бежал, запрокинув голову и широко выбрасывая ноги, а его спутники лежали, закрыв головы руками. Опомнившись, солдаты стронулись с места и тяжело пустились в погоню, — буксуя в песке, суетливо сдергивая с плеч автоматы, стреляя, — кто от плеча, кто от пояса. Но, несмотря на треск за спиной, человек бежал, быстро сокращая расстояние до спасительных холмов. Смешно думать об их спасительности, думал стрелок, ведя перекрестье прицела за бегущим и натыкаясь на вислые зады егерей, — смешно так думать, когда вверху, накрывая беглеца долгой тенью, проносится ведомый… Обескураженные солдаты уже меняли пустые магазины, махали кружащему над ними вертолету, призывая помочь, но, отрицательно качнув пилонами, он снова уходил на круг. А человек бежал, чудом выбирая в кипящем пространстве свободные от смерти места. Наверное, этот восточный маг неуязвим, он просто забавляется, и от его непресекающегося бега солдаты теряют уверенность в убойной силе своего оружия, в свинцовости своих пуль. Нельзя же заподозрить сразу всех, выполняющих расстрел, в намеренном косоглазии… Вот приговоренный остановился, оглянулся и, размахнувшись, швырнул что-то в сторону преследователей. Споткнувшись о страх, солдаты повалились на песок, неловкие, сдавленные бронежилетами, подминая собственные автоматы. Человек нырнул в нагромождение больших валунов, запетлял, отталкиваясь от каменных боков. Не дождавшись взрыва, солдаты поднимались и снова бежали, забыв до конца разогнуться, стреляя из-под живота. В камнях зазмеился малиновый рикошет трассеров, огненный серпантин оплетал ноги бегущего. Ему оставалось совсем чуть-чуть, чтобы исчезнуть за камнями, когда стрелок вдруг ощутил всю ярость неуклюжих, обманутых солдат, увидел, как один из них припал на колено, старательно прицелился, скаля зубы, и его плечо задергалось от коротких и злых, как удары ножа, очередей…
— Командир, — сказал стрелок, — топливо на исходе…
— Блин, — сказал командир, жуя сигарету. — Надо сказать им, пусть прекращают. Уроды…
Он высунулся в блистер и замахал стоящему недалеко бойцу.
Но, чиркнув винтами по солнцу, пролетел ведомый, сказал: «Они его кончили. Камнями кидался, дурак».
Волоча автоматы за ремни, солдаты возвращались. Багровый командир, высунувшись из кабины по пояс, орал на взводного, угрожая пистолетом. Привели двоих, затравленно озиравшихся и никому не нужных. Облокотившись на пулемет и посасывая погасшую сигарету, стрелок изучал их через стекло. Кажется, они уже встречались ему где-то в прошлой, музейной жизни — старик с длинными голубыми зубами и мальчик в широкой, грязно-лиловой, как зимний закат, рубахе: чумазая мордочка, большие, изюм в шоколаде, глаза. Вопрос изучившему местные нравы: кто он? Внук пустынного отшельника или приголубленная им сиротка, теплый персик, греющий барханными ночами холодеющие чресла старика? Тогда кем был тот, бежавший?..
Взлетели, оставив на качнувшейся земле двоих с поднятыми руками, и быстро ушли. Торопясь, чуть не опрокинулись, поскользнувшись на ветре, и казалось, что из задних створок убегающей машины что-то валилось и лилось…
Продолжая: кем он был и зачем бежал? Никаких зацепок для следствия. Вся миллиардолетняя цепь причин сейчас не рассматривается, — только ее хвостик, оторвавшийся и оставшийся в камнях. Не поймите меня превратно — я не грущу об убиенном. Ночью, как обычно, придет время подумать о нем, разобраться в психологии пули, в ее скачке из металла и пламени в живое (она даже не успевает озябнуть в полете), в ее чудесном преображении — из свинцовой болванки в новый, смертельно важный орган, горячий, воспаленный аппендикс, остывающий медленнее тела; подумать о тупиковости той эволюционной веточки, которую намедни срезал великий садовник, — и, покрываясь потом, ощутить этот удар меж лопаток, этот лом в спицах твоего дыхания, увидеть кувыркание мира вокруг тебя и услышать издалека собственный вскрик…