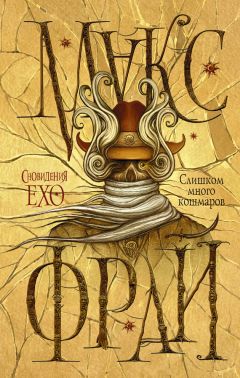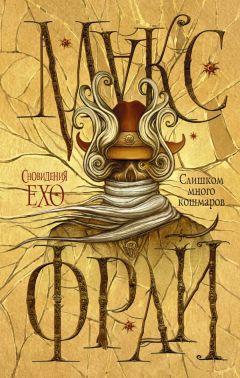Игорь Фролов - Летать так летать!

Обзор книги Игорь Фролов - Летать так летать!
ВЕРТОЛЕТЧИК
повесть
От автора
Говорят, что писать о событиях по горячим следам не стоит. Особенно если это такие события, как война. Но, в оправдание автора, нужно заметить, что в первых своих рассказах он старался уйти от привычного читателю образа, хотел обогнуть «свою» войну по окружной дороге или найти в ней оазисы тишины. Вспоминать, «как оно было», автор не мог — не получалось. Перо китайской ручки, купленной в дукане, начинало фальшивить и просто врать — художественный вымысел никак не хотел срастаться с реальностью. И тогда он решил укрыть свою войну маскировочной сетью поэзии. Так родились первые рассказы, в которых автор попытался показать то, что хотел, не указывая при этом пальцем. Насколько это получилось — судить читателю. Но сейчас автор все же предварил эти рассказы указателями — чтобы читатель знал, что послужило толчком к их появлению.
Война, как и все большое, видится на расстоянии. Двадцать лет — расстояние достаточное, чтобы разглядеть. Чтобы вспомнить то, что, казалось, навсегда кануло в недосягаемые глубины памяти, — и понять: это нужно воскресить. На этот раз безо всякой поэзии, без художественного вымысла, но и без того ужаса, который в ассоциативном ряду любого нормального человека прочно связан со словом «война». Вспомнить те моменты, которые составляют каркас ностальгии…
— Ну-ну, — скажет бескомпромиссный читатель, — договаривай! Ностальгии по?..
Да, мой читатель, ты правильно понял — по войне.
По молодости. По настоящим друзьям. По надежде на жизнь. И даже по страху.
Так появился этот документальный цикл. Прочитав его, кое-кто может сказать: «Легко тебе служилось — не война, а курорт». Но учти, мой доброжелательный критик: это не вся моя война. Это — мое «Избранное». А впрочем, может, ты и прав — спустя двадцать лет мне начинает казаться, что все было именно так, как написано, — легко…
Перед снегом
Попытка описать ночь перед событием, от которого зависел его путь на войну.
Что было дальше — читайте в истории «Первый прыжок».
Здесь, видимо, нужно описать обстановку. Сейчас, ошеломленный известием, я вряд ли смогу сосредоточиться, поэтому стоит пригласить стороннего и странного наблюдателя. Он отметит, что из окна тянет холодом, что комната четырехугольна и бедна декорациями; что стол, стул и кровать — все казенное, а из личного — две книги на столе (названия уже стерты сумерками), стопка чистой бумаги и один полуисписанный листок (тема неясна и к тому же оборвана на полуслове). Есть еще настольная лампа, которая сейчас спит. В наступающей темноте пока живет окно, и, подойдя к нему, можно видеть: на дворе — октябрь. Магическое слово… Произнесешь его, и кто-то очень прошлый навязывает мне свой голос. Отвязаться трудно… Позвольте наблюдателю присесть и, не включая света (я вижу в темноте получше кошки), всем услужить. Себе — освобождением от чар, тому, кто звал, — эпиграфом к рассказу, его цензуре — классики куском (почти что с кровью). Что ж — начну как есть…
Октябрь уж наступил. Здоровью моему полезен русский холод. Весной я болен: кровь бежит быстрей, теснятся чувства, взгляд плющом бесстыжим опутывает ножки… Впрочем, стоп! Решат, что я про стул в оранжерее… Вернемся к октябрю. Повтора не стыдясь, у предка позаимствуем побольше. И стук копыт по мерзлой целине, и зябкость голых веток, и деревню; и дым печей, и ржанье кобылицы, что отвечает моему коню; и сумерки, когда я возвращаюсь… Прими-ка, братец… Твой хозяин счастлив. Зажгите камелек. Оставьте мне: стаканчик пунша, плед, свечей трезубец, — и небольшой сквозняк, чтоб тени жили… Перо с бумагой? Вроде ни к чему… Хотя — несите. Вдруг в истоме теплой шальная мысль плеснет (и жалко упускать, и длить нельзя — тогда покой насмарку), — ее я подсеку. И снова тишь. Корабль стоит, и нет нужды матросам кидаться и ползти. Пусть отдыхают. Пусть… (Стук в дверь.) Проклятье! Кто там? Мне — письмо? Так поздно? Подайте же… Духами и не пахнет, — но почерк гневный: «Сударь, Вы посмели… моя жена… назойливость, с которой… охотник до чужого… сплетни света…» Все ясно. Глупость, но автограф ценный. Как жаль, что не в стихах, — ведь он поэт (и популярнейший в веках окрестных). К поэтам, правда, я достаточно суров. Привыкли на коньках по льду бумаги, а ты попробуй шагом так же вольно! Телеграфист… Но неужели, боже, одни лишь дураки дают приплод? Неужто вздох (когда целуешь в ушко) чужой жены, — он стоит чьей-то жизни? Его или моей… Так что же делать? Стрелять в межрожие иль небо продырявить? (Что, право, так несправедливо к небу!) Нет, коли он дурак, — пожалуй, застрелю. Мочите ягоды… Хотя — постойте… А если — он меня? Я как-то не подумал… И кстати: не затем ли объехал я владения свои, чтоб попрощаться? Ворон все кружил… И воробей мне из ворот навстречу… Вот так задача — мучиться всю ночь: кому из нас?.. Достаточно. Теперь, устроившись удобнее во мраке, послушаю, что думает двойник. Он думает, что скоро ляжет снег, что осени осталось жить неделю, что хорошо бы снег пошел сейчас…
…Чтобы валил. Пусть буран закроет перевалы и бушует неделю, — тогда отменят, перенесут, забудут. Даже не хочу уточнять, что назначено на завтра, — через это проходит не так мало людей, как кажется, и вероятность погибнуть намного меньше, чем на той же дуэли. Но недавно случайно выяснилось, что одеяло, которым я укрываюсь, волею равнодушного служителя перешло ко мне от такого вот погибшего. И эта комната, и это зеркало — они тоже были его. Страшно ли мне? Если поймать за мышиный хвост эту мелькающую по краю сознания мысль, то уточню: мне не страшно, мне — подозрительно. Неужто мои путаные перемещения, так и не выстроившиеся в прямую, решено свернуть? И это теперь, когда я только-только раскрутил пращу и медлил, прицеливаясь. Мне кажется, я хотел начать именно в этот вечер, и у меня даже был искренний замысел об оконном стекле, о желто-красной осенней акварели, о серых лужах и мокрых ботинках, о великой депрессии большого города. Здесь, вдали от моих больших городов, на окраине континента, на его холодной, но красивой оконечности, в маленьком, как родинка, поселке, — здесь это должно было получиться особенно правдиво. Тем более выполнено главное условие — вот этот покой осени, когда кажется, все люди и людишки, напившись вечернего чая, взбивают подушки, — и никто не обгонит пустившегося в путь, потому что никто не бежит. Самое время, навострив перо и глядя в опустевшие дали, — начать… Вот здесь-то и ворвалась безжалостная, как римский солдат, судьба и, гогоча, замахнулась неразборчивым мечом. Завтра, тяжелый, как пуля, я узнаю запах сырых облаков, и беззвучный крик будет полоскать мои щеки. Положенные в таких случаях царства не обещаны. Только ночь снисходительно брошена мне, как последняя сигарета. Что я успею, суетливо суетясь? Все, что укладывалось в одну ночь великого, — все уже уложено до меня. Мой же багаж в такое короткое время не упаковать, — услышав, как рассвет идет, гремя ключами, вспотевший идиот плюнет в сердцах: нужно было просто дышать…
Я могу отказаться… Попробуем эту мысль на вкус: я могу… Идея сладка и тягуча, ее можно смаковать всю ночь. Значит — отказаться? Официального осуждения не последует, — только те, с кем начинал, пожмут плечами. Но разве я должен объяснять им, что я прибыл сюда с ними и вместе с тем отдельно от них; что хотел взять здесь уроки вертикального роста, — я, оторванный и круглый, привязанный лишь к собственному центру, хотел узнать, как появляются корни, как они всасывают жизнь, хотел научиться гнать ее вверх и превращать в шум и шелест, очаровывающий тех, кто, оказавшись в моей тени, поднимет голову…
Итак, что ждет меня, лишенного чуждых мне перспектив? Я останусь один, и все будет, как было, — но теперь уже я не сомну этот лист, как предыдущий. Тот же завалившийся за подкладку пространства и времени поселок, так удручавший меня после большого города, тот же неразговорчивый и мудрый лес, та же официантка в той же столовой — теперь я рассмотрю все по-настоящему. Для начала, не торопясь, оближу этот отлитый из вермута леденец местной осени, соглашаясь наконец с иноземцем, который, спустившись с трапа, вздохнет: «Какой запах!» О, этот реликтовый букет, давно вымерший (или никогда не живший) на западе и юге, — жаль, что его нельзя расчленить на простые составляющие, — на запахи хвои, черемухи, порожистой речки и (предположим) дымка горящей на далеких огородах ботвы. Я буду вдыхать этот запах до самого снега, бродя по дощатым тротуарам, которые все ведут в центральный парк — наивную, словно исполненную детской рукой и оттого более трогательную копию могучих городских парков. Несколько деревьев, летняя эстрада с тремя лавочками, сломанные качели и алебастровый лебедь с отбитым крылом, — я буду курить здесь, осыпаемый листьями, вспоминая о том, чего со мной никогда не было; я даже выпью портвейна, предложенного беспечным незнакомцем, и поговорю с ним на его заковыристом языке. Я буду пережидать туманные дожди в маленьком книжном магазине, глядя то в книгу, то на оконный струящийся размыв, — и уходить, не дождавшись окончания, чтобы вернуться домой промокшим и, переодевшись в сухое, пить горячий чай с брусничным вареньем, — пока не придет зима.