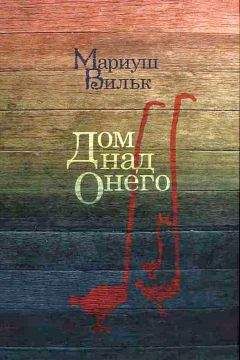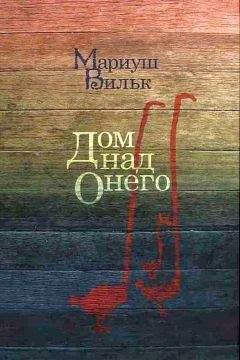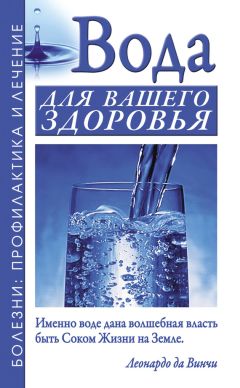Джамал Садеки - Снег, собаки и вороны
А раньше снег с тех крыш всегда счищали. Ага-Махмуд ставил лестницу и легко взбирался наверх. Туран-ханум стояла внизу у его ног и, глядя на него встревоженными глазами, приговаривала:
— Махмуд-джан, холодно, слезай, а то простынешь…
Ага-Махмуд только смеялся и, подышав в ладони, брался за работу. А Туран-ханум плотней закутывалась в покрывало и все повторяла:
— Смотри не простынь, Махмуд-джан… холодно… Не простынь.
Бывало, я, миновав бассейн, влетал к ним в комнату, там, в дальнем конце двора. Ага-Махмуд подхватывал меня на руки, подкидывал и приговаривал:
— Это чей такой красивый мальчик, а? Это мой малыш, мой…
Когда Ага-Махмуд, случалось, уезжал на машине на несколько дней, Туран-ханум часто усаживала меня на колени и рассказывала сказки.
Теперь в их комнате в беспорядке валялся всякий хлам, пыльные мешки из-под угля, столы и стулья, поломанные во время свадьбы моего старшего брата.
В день свадьбы я сидел возле Туран-ханум. В окно мы смотрели, как украшают двери, стены, двор.
Прошло уже три или четыре месяца с того дня, как я услышал, что Ага-Махмуд больше никогда не вернется из поездки.
Вечером матушка моя силой стянула с Туран-ханум черное платье. И теперь Туран-ханум в своей бледно-желтой кофте казалась мне милой и прекрасной невестой. Мы сидели рядом, она чистила семечки и совала их мне прямо в рот.
С той поры как Туран-ханум надела траур, она стала ходить на фабрику, мыть шерсть, хотя мой отец, Хадж-ага, уговаривал ее оставить это занятие. Она поднималась рано, ставила самовар и уходила.
Еще она стала часто брать меня к себе спать, а по вечерам угощала хурмой, фисташками, черносливом.
Сейчас Туран-ханум чистила для меня семечки, а сама не отрываясь глядела на столпившихся во дворе мужчин. Она походила на танцовщицу, которая с привычной легкостью движется в танце, а сама напряженно следит, удержится ли у нее стакан на голове.
Потом она поднялась, затворила окно:
— Что-то холодно…
Было вовсе не холодно, и я удивился:
— Тури-джан, ты что, правда замерзла?
Она обхватила руками мою голову, взъерошила волосы:
— Нет, милый, на сердце у меня очень тепло…
И тут я вспомнил: ведь вчера вечером она обещала рассказать мне сказку.
— Ты вчера обещала сказку…
— Ладно, пошли сядем к огоньку…
Мы усаживаемся возле лампы с ажурной сеткой. Лампа жужжит, как огромный жук, а из сердцевины ее, похожей на золотое яйцо, лучится свет.
Туран-ханум опять произносит:
— Как холодно… — и придвигается поближе к лампе.
А мне кажется, что слова эти обращены вовсе не ко мне.
— Ну, скорей рассказывай…
Она медлит, греет руки над огнем, потом начинает. Губы ее шевелятся, а глаза прикованы к пламени, и кажется, будто губы говорят для меня, а глаза для огня.
Сказка льется. Слова цепляются друг за друга и медленно выскальзывают изо рта, словно нанизанные на одну нить. Туран-ханум рассказывает, и голос то плачет, то совсем замирает, как шум мотора за горами.
— …И вот на этот раз, когда сын падишаха отправился странствовать, он вывалился из машины. Оступился и упал с подножки в ущелье.
— Как же это он упал в ущелье… а? — спрашиваю я. — Разве люди падают в ущелье?
— Машина сына падишаха подъехала к краю ущелья, он упал туда и умер.
— А зачем его машина подъехала к краю ущелья, зачем он умер?
— Зачем умер?
Туран-ханум на миг обращает ко мне взгляд и больше не произносит ни слова. Она сидит, прижав пальцы к сетке лампы, неподвижно смотрит на огонь, но ничего не видит… Передо мной снова та, прежняя Туран-ханум, которая стояла в дверях возле лестницы и приговаривала, кутаясь в покрывало:
— Не простынь, Махмуд-джан, не простынь…
Туран-ханум смотрит на лампу, и вдруг глаза ее закатываются, белки, похожие на голубиные яички, заволакиваются влагой, по лицу катятся крупные слезы.
Я кидаюсь к ней:
— Тури-джан, не плачь… не плачь…
Она вытирает лицо руками и говорит:
— Нет, нет, моя радость, я не плачу… все.
В этот момент в дверь заглядывает мой отец, Хадж-ага. Он входит, Туран-ханум закрывает лицо, опускает глаза. Но взгляд ее словно что-то притягивает кверху, веки дрожат. Мне кажется, она вот-вот заплачет. Я наклоняюсь к ней. А мой Хадж-ага улыбается:
— Ай да Туран-ханум, что за женщина! Наконец-то скинула это черное платье. Зачем так долго предаваться горю? Вы еще молодая… Положитесь на бога. Поглядите, от вас ничего не осталось, одна кожа да кости. Почему не слушаете меня, ходите на фабрику, как все эти безродные и бездомные? Оставайтесь дома, присматривайте за хозяйством.
Туран-ханум бледнеет, голова ее никнет. Моя рука, зажатая в ее ладонях, холодеет, как в ледяной воде.
Глаза Туран-ханум закрыты, пальцы, сжимающие мою руку, дрожат, словно сердечко воробья. Я прижимаюсь к ней.
Мой Хадж-ага достает из кармана бумажку:
— А ну, голубчик Джафар, сбегай-ка принеси две пачки папирос, сдача твоя. Ну давай, живо…
Я хочу высвободить свою руку из пальцев Туран-ханум, но она не пускает, будто хочет удержать меня.
На следующий день Туран-ханум все-таки отправляется на фабрику и ходит туда еще неделю. А потом остается дома.
* * *С тех пор как Туран-ханум перестала ходить на фабрику, матушка моя заметно повеселела. Теперь она могла в любое время отлучаться, пойти куда ее душа пожелает и ни о чем не беспокоиться. В полдень или вечером, когда она возвращалась, в доме царил порядок. Туран-ханум успевала приготовить еду, вымыть посуду, всюду прибрать. И сама она была как свежий букет.
Вот почему матушка так полюбила Туран-ханум, неустанно хвалила за добрый нрав, сноровку, благородство и проявляла всячески свое уважение к ней.
Случалось, что, забрав с собой маленького Ахмада, она спокойно уезжала дней на десять-двенадцать в Шимран, к моему старшему брату, или отправлялась навестить тетушку в Телеган[1], а все дела — дом и фабрику — оставляла на Туран-ханум. И тогда я, Туран-ханум и Хадж-ага оставались в доме одни.
Как-то днем, возвратясь из школы, я застаю Туран-ханум возле бассейна раздетой. Матушка несколько дней назад уехала к нашей достопочтенной тетушке Асмат.
Прикрывшись покрывалом, Туран-ханум кричит:
— Миленький, ступай в комнату. Я быстро — только окунусь — и выйду.
— Тури-джан, — говорю я, — и я с тобой, я тоже хочу в бассейн.
Она начинает раздевать меня, смеется, сбрасывает с себя покрывало прямо на самшитовые кусты, которые окружают бассейн. Теперь она стоит совсем-совсем голая, как моя матушка в бане. Тело у нее белое, как молоко, оно блестит, как новые фарфоровые тарелки, и сверкает, словно зеркало на солнце. Мне начинает казаться, что, если бросить камень, Туран-ханум зазвенит, разобьется и рухнет на землю.
Заметив, что я уставился на нее, Туран-ханум смеется:
— Стыдно, сынок, не смотри на меня…
Улыбаясь, она взъерошивает мне волосы, нагибается и целует в глаза. А я смотрю на ее живот, выступающий вперед, словно мяч. Когда маленький Ахмад наедается за обедом, у него бывает такой живот, точь-в-точь.
Я касаюсь живота — твердый, как камень.
— Эй, обжора! Вот так пузо! Тури-пузатик!
Она подхватывает меня на руки:
— Хочешь маленькую, хорошенькую сестричку?
— Хочу, Тури-джан, хочу маленькую, хорошенькую сестричку. У меня еще никогда не было сестрички.
Упираясь ногами ей в грудь, я пытаюсь взобраться на плечи. Груди у нее твердые-твердые, я даже ногу ушибаю об них. Тут Туран-ханум вдруг хватает меня под мышки, и мы с хохотом прыгаем в бассейн. Мне страшно, я прилипаю к ней, руки кольцом вокруг шеи, голова прижата к груди:
— Пусти, пусти! Хочу выйти!.. Не хочу!..
А она, сощурившись от смеха, приговаривает:
— Ах ты чертенок! Глаза таращить, это он умеет.
Я еще крепче цепляюсь за нее:
— Пусти!.. Я и не смотрел на тебя…
Два или три раза она окунает меня с головой. Вода холодная, и я плачу. Она выпроваживает меня из бассейна:
— Ну-ка, беги, милый, вон мое покрывало, закутайся. Не дай бог, простынешь, иди на солнышко.
Завернувшись, я снова подхожу к бассейну. Туран-ханум, как белая водяная птица, плещется, бьет по воде ногами и приговаривает:
— А-а-а-ах, хорошо, господи, как хорошо…
От холода у меня зуб на зуб не попадает, но я скулю:
— И я… и я к тебе… хочу…
* * *Еще не рассвело, когда матушка окликнула меня. Просыпаться не хотелось.
— Спать хочу… Я посплю еще…
А матушка зашептала прямо в ухо:
— Неужели не хочешь проводить нас как старший, а? Ну, вставай…
Тогда мне было лет восемь-девять. Но я считал себя настоящим мужчиной. Я поднялся, начал тереть глаза. Еще накануне вечером матушка предложила мне:
— Хочешь проводить нас в Шах Абд ол-Азим[2]?