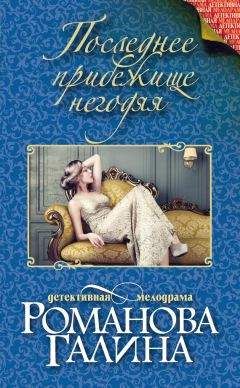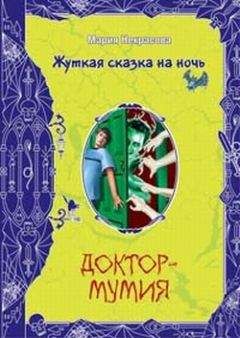Хосе-Мария Гельбенсу - Вес в этом мире
Нет. Не думаю, что это страшно. Ведь они хотят именно этого, разве нет? А раз так, по-моему, это хорошо.
Боюсь, я плохо объяснил. Я имел в виду, что это страшно для меня, мне совершенно не хочется оказаться в такой ситуации, понимаешь?
Да, но что ты можешь сделать? Когда ты окажешься в ней, тебе будет казаться, что это хорошо.
Но как раз это меня и бесит! Что я уже буду не тем, кто сейчас говорит с тобой, а кем-то совсем другим! Стариком, дряхлым стариком! Меня возмущает именно то, что я знаю обо всем заранее. Возмущает и подавляет.
Подожди, когда это с тобой произойдет, тогда и поговорим.
Поговорим? Но я-то говорить не смогу: я утрачу все, что составляет меня нынешнего, я буду просто стариком, который считает воспоминания единственным способом удержать жизнь, что так и утекает сквозь пальцы…
Ты о песке, да?
О песке, о прахе. Как там сказано насчет горсти праха…
I will show you fear in a handful of dust[3].
…который утекает сквозь пальцы? Это ведь кто-то из твоих англичан…
Элиот[4].
Да, точно. Элиот. Но я ведь говорю не о страхе — я говорю о некоторой прискорбной форме утраты ничего, потому что воспоминания — уже ничто, и они не годны ни на что: они лишь становятся единственным способом продолжать жить. В этом-то и весь ужас.
Честно говоря, я думаю, что это страх и что в данном случае образ Элиота подходит как нельзя лучше.
Помнится, он говорил не об этом.
Да, не совсем об этом, но ты ведь тоже не Король-Рыбак.
Пожалуйста, давай забудем об университетских интеллектуальных играх. Я больше не имею к ним никакого отношения, терпеть их не могу, а кроме того, они кажутся мне просто способом покрасоваться. К черту их! Я говорил о другом. Проклятая англицистка.
Я очень рада, что ты сказал это: проклятая англицистка. Это вполне в твоем духе. Мне даже стало как-то уютнее.
Правда? Мне тоже; нет ничего лучше, чем заново обретать прежние ощущения. Но вот что я тебе скажу: когда ты один, это обретение смахивает немного на энциклопедию ужасов, когда же не один, ты разделяешь его с другим человеком. Разница огромная! Слова, ощущения, эмоции, аргументы… они возрождаются, переплетаются, взаимно питают друг друга, и это совсем иное, нежели драматическая пустота эха. По-моему, то, что ты приехала, — замечательно. Это просто замечательно.
Отлично, отлично, я рада. Однако не забывай: я приехала, чтобы рассказать тебе кое-что.
Да, я знаю: чтобы обрести какой-нибудь порядок. Твоя молодость позволяет тебе это. Как же я мог не согласиться?
О господи! Не знаю, готов ли ты выслушать меня.
Разумеется, нет. Ты ведь только что приехала, а здесь не исповедальня, где можно переходить к сути дела, едва опустившись на колени. Ты мне: «Радуйся, пречистая Мария», я тебе: «Без греха зачавшая», а ты: «Я грешна, отец мой, грешна, что в моей жизни нет порядка и что я сама не понимаю себя»… Не смейся. Разве так начинают разговор после того, как не виделись столько времени?
Да, правда, прошло много времени с того последнего раза, когда мы виделись в Мадриде. Сколько же это лет? Уф, не помню. Но их словно не было, я разговариваю с тобой как обычно, будто прошло всего несколько месяцев. Ведь разговаривать — это не то же самое, что писать письма. Сейчас, когда я здесь, мне кажется, что письма, их язык были куда более натянутыми, чем теперь, когда я с тобой разговариваю. Но все-таки тем, что я здесь, вижу тебя и говорю с тобой, я обязана именно нашей переписке.
Твои письма все эти годы были прекрасной ниточкой жизни.
А для меня они были нитью мудрости и спокойствия, мой дорогой учитель.
Слышать это очень приятно.
Я рада. Я не смирилась с утратой всего хорошего, что было между нами.
Да, именно этого я боялась больше всего. Не знаю, ощущал ли ты это, но наш факультет внушал мне страх. Не сам факультет — аудитория. Факультет производил впечатление, это правда, но аудитория — это было мое место внутри факультета, она стала чем-то очень личным для меня, понимаешь? Она пугала меня и вместе с тем возбуждала. В здании можно было затеряться, убежать, но в аудитории ты на виду — ты сама, такая, как есть, и никуда не денешься. Там начиналась учеба, и мне было страшно, за этим моментом стояло очень многое, а впереди — пять лет жизни, моей жизни, подумать страшно. В первый раз мне показалось, что пробил час истины, мне никогда прежде не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Школа — это другое, в школе все идет по накатанному, как по рельсам, понимаешь? Это я тоже почувствовала тогда: что я могу делать что хочу и как хочу, что никто на меня не давит, это была свобода, и она тоже пугала меня, потому что я понимала, что в этом здании — чужом, но открытом — я завишу только от себя самой и никого не знаю. И тогда, представь себе, я подумала о своих родителях. Вспомнила нашу маленькую домашнюю жизнь, такую родную, несмотря на все то, что девочка моего тогдашнего возраста обычно думает о своем доме. В конце концов, все то большое, что ожидало меня впереди, вышло из моего маленького дома. Мой отец приехал в Овьедо как квалифицированный служащий, а дед не умел ни читать, ни писать. В доме только-только хватало на еду и одежду, но отец вбил себе в голову, что я далеко пойду. Он вовсе не был феминистом: просто я была единственным ребенком в семье, так что выбора не было: вот все это и привело меня в университет. В нашей стране много таких людей — мелких служащих или ремесленников, которые ценой всевозможных лишений добиваются, чтобы их дети получили университетское образование, и которые только и ждут от жизни, что триумфа своего сына или дочери — ждут так, как, наверное, ждут только спасения души. Потом часто случается, что эти сын или дочь предают свой класс и стыдятся родителей, но ведь жизнь беспощадна. В общем, эта дуга, охватывающая и неграмотного деда, и его внучку, которая собиралась стать философом, что словно сама история века в нашей стране. Теперь мои дочери принадлежат к образованной буржуазии и будут без особых проблем учиться в университете. Не знаю, пополнят ли они собой списки безработных или сразу же найдут работу, но если случится первое, вполне вероятно, что в ожидании второго они смогут ездить по свету и познавать жизнь. Какая пропасть, верно? А мать поддерживала меня по убеждению. Ей не требовалось знать, удастся ли мне получить диплом: она просто всем сердцем желала этого — ради меня самой, и больше ни для чего. Это свойственно простым и безыскусным душам: они хотят, только чтобы у тебя все было хорошо, им неважно, как это произойдет, поэтому они будут тебя поддерживать независимо от того, захочешь ты стать таксистом или космонавтом, женой и матерью семейства или биржевым маклером. Отец — другое дело: у него были свои амбиции, он не довольствовался чем попало. Родись я мужчиной, не миновать бы мне технической карьеры: пришлось бы стать каким-нибудь инженером — промышленным или, скажем, путей сообщения… Ты ведь знаешь, что значит иметь сына-инженера. А для женщины вполне годился диплом философа; думаю, отца он устраивал больше, чем диплом юриста. Я ведь могла стать преподавателем, даже профессором, получить кафедру! Это давало общественное положение и избавляло от ежедневной борьбы за существование, которую приходится вести частным предпринимателям и адвокатам и которая, считал отец, слишком жестока для женщины. Думаю, сейчас, при виде того, насколько эволюционировало общество и у нас, и во всем мире, мысль сделать из своей дочери дорожного инженера или воинственного адвоката показалась бы ему более соблазнительной. Но если вспомнишь о происхождении моего отца, ты поймешь, что для него тот вес, который имел в его глазах профессорский пурпур, основывался на власти, уважении и стабильности, так что, в общем, я с лихвой оправдала все его надежды. Знай он о той грязной подспудной борьбе, что происходит в университете за каждое свободное местечко, он умер бы от страха. Эти наивные представления родителей, всегда стремящихся направлять судьбу чада своими слабыми руками, своими большими и малыми усилиями, своей неумелой любовью… они не утешают меня, но вызывают нежность — да, видишь, когда прошло время, когда я сама стала матерью. Но эту нежность начинаешь ощущать только по прошествии времени, она мало связана с собственным материнством — теперь, думая об этом, я это понимаю. Время возвращает тебе понимание, которого не ожидала, тогда как материнство стремится заключить тебя в некое замкнутое пространство, ограниченное чрезмерной любовью: вот что я думаю теперь. Я не разочаровала ни отца, ни мать, они горды и счастливы моим нынешним положением, и в этом вся их жизнь. А моя, что принадлежит мне со всеми своими последствиями, являет собой образец неустойчивости. Разве я могу сказать им об этом? Я представляю себе их непонимание, и это тоже рождает во мне нежность. Поэтому, навещая их, я рассказываю, что в моей жизни все великолепно, и делаю это по той же самой причине, по которой закрою им глаза, когда они умрут. Что скажешь? Не смотри на меня так, я вполне серьезно. Очень непросто объяснить, что все плохо, когда все хорошо. Потому что все хорошо, все правда хорошо, мой отец был прав, и, в общем-то, произошло то, что должно было произойти, его предвидения оправдались, его гордость была законной. Разве важно, какой путь привел меня к моему нынешнему положению, разве важно, сколько бессмысленных зигзагов и поворотов пришлось мне проделать вместе с ним, чтобы добраться туда, где мой отец в наивности своей забронировал мне место — с такой верой, какой мог бы позавидовать священник из его родной деревни? Как объяснить ему, что в один прекрасный день может случиться нечто настолько важное, что от этого земля разверзнется у тебя под ногами и поглотит всю твою так хорошо налаженную жизнь? Боже мой, жизнь так сложна. Я была склонна думать, что все дело в нас самих, но все дело в жизни, в судьбе, в случае — не знаю, как это назвать точнее. Внезапно подземный толчок сносит твой дом, твое место. Что тут поделаешь? Кто в этом виноват? Это жизнь. Мы думали, что она надежна, мой отец думал, что она надежна, что это всего лишь вопрос слагаемых, которые дадут определенную сумму, если Господь чуточку подсобит, как говорила моя мать. Забавно, правда? Чуточку… бедная моя мама. Но это не так, и я смеюсь над этим твоим ненавистным миром с его массами и болотом — смотри-ка, куда тебя занесло. Может, тебе и правда все безразлично, а вот мне — нет. Да и сомневаюсь, чтобы тебе было все безразлично. Неуверенность — вот демон современного мира, ведь так? Демон. Меня просто восхищает его лукавство. Вот ведь хитрец. Не получается искусить нас в классическом стиле — так он выбивает почву у нас из-под ног. Кто способен в таких условиях создать что бы то ни было — семью, спокойствие? Моего отца уже и правда ничто не задевает, поскольку неуверенность, в худшем случае, может убить его. У него есть противоядие: смерть. А у меня? Что делать нам, когда начинаются подземные толчки? Броситься бежать — с головой на плечах или потеряв ее, но броситься бежать. И ты сделал бы то же самое, не обманывай себя, ты не настолько мертв, как пытаешься казаться; ты не мертв до такой степени, что вся твоя игра в благородного старца, наверное, — просто заклинание, с помощью которого ты силишься скрыть то же самое, что хочу скрыть я: страх. Такое происходит, когда человек ударяется в бегство, охваченный ужасом перед землетрясением: страх подталкивает его, а бег превращается в сверхчеловеческое усилие. Но я не хочу! Я не хочу бросаться бежать сломя голову, как сумасшедшая: я хочу смотреть себе под ноги и выбирать, куда ступить — даже если это лишь для того, чтобы оттуда снова перепрыгнуть на другую точку опоры. Плохо вот что: я сама не знаю, где я, и в то же время живу в ситуации, где все идет хорошо, совершенно определенно хорошо, все идет так, как хотелось, а семья просто идеальна, как в альбоме с цветными фотографиями.