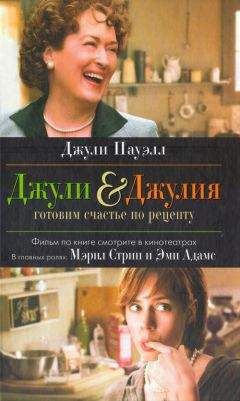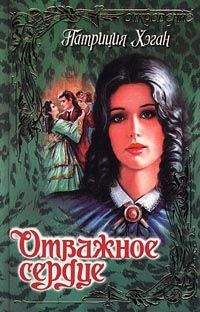Кэтрин Мадженди - Над горой играет свет
— Мам, я опять приехала домой.
Но она не говорит в ответ «Ладно, поживи немного».
— На этот раз ты не сможешь меня выгнать, мама.
Еще как сможет. Дважды ведь выгоняла.
Чуть ли не бегом пробираюсь по сумеречному дому в свою комнату. Соображаю плохо, будто в каком-то трансе. Боже, тут все как было раньше. Ставлю маму на комод, шепчу: «Вот сюда. Побудь здесь, мамочка». Разворачиваюсь и снова на улицу, к машине. На свежем воздухе мозги слегка прочищаются. Затаскиваю к себе сумки, распаковывать их что-то не тянет. Сразу, как вошла, тянет уехать, и побыстрее.
Распахиваю настежь окно и вдыхаю запахи земли и детства. Ветерок вздыбливает волосы, теребит пряди. Горы вдалеке — невнятные тени, и — только чтобы разозлить маму — я кричу:
— Привет! Не забыли меня? Вот я и дома!
И мне слышится:
— Поживи немного, Вирджиния Кейт.
Возможно, это только шепоток листьев, шум ветра, но я улыбаюсь: вдруг мне не померещилось? Я с притворной храбростью открываю дневник там, где лежит фото родителей, и при лунном свете читаю аккуратные, с наклоном, записи бабушки и неразборчивые, наспех, пометки мамы.
Наши матери, и мамы наших матерей, и праматери повторяли жизни своих предшественниц, даже когда пути их вроде бы не совпадали. А у меня и впрямь все иначе.
Как только закрыла дневник, ветер сильно толкнул меня в грудь, с тумбочки что-то брякнулось. Это фотография в рамке из палочек от фруктового мороженого, ее мне смастерил Мика. К рукам приливает жар, они слегка дрожат. На снимке мы, Мика, Энди и я, глупо улыбаемся. Щелкнули нас на Пасху. Всех троих тогда принарядили, а потом мы разулись, ноги босые и грязные, и мой ненавистный капор вот-вот свалится. До чего счастливые, даже защемило сердце.
— Лезь на чердак, малявочка, — призывает бабушка, — там полно всего.
Поставив фото на тумбочку, выхожу в коридор. Карабкаюсь по чердачной лестнице. Знакомый дребезжащий скрип ступенек, знакомое громкое их нытье. Старый папин фонарик на месте, висит на гвозде у входа, я зажигаю его и осматриваюсь. Коробки с рождественскими украшениями, коробки с книгами, коробки без подписи, а вот коробка, на которой черными чернилами крупно выведено: Пасха.
В ней завернутое в бумагу мамино зеленое платье и шляпка с широкими полями, в круглой коробке, и белые перчатки. И вмиг пред глазами: мама скользящей походкой идет по проходу церкви, и все смотрят только на нее, и свет от лампочек меркнет в лучах ее сияния. Я прижимаю мамино платье к лицу, нюхаю. «Шалимар». До сих пор не выветрились. Быстро прячу все назад, пока не нахлынули другие воспоминания, шквал воспоминаний.
Направив лучик фонаря на угол, высвечиваю белую коробку, всю измызганную грязными пальцами. Моя Особая, в ней мои секреты, памятные вещицы. Пробравшись в угол, поднимаю ее и нежно прижимаю к груди, будто ребенка. Особую коробку забираю с собой. И вновь бреду по шатким ступеням, тащу клад из фотографий и прочих сокровищ, волоку в свою комнату. Ну вот, теперь точно не уеду, пока все-все не вспомню.
Разбираю чемодан, заглядываю в комод, там тоже мое детское барахло. Под белыми хлопковыми трусиками целый клад: письма, записочки и гладкие речные камушки, так и лежат с тех пор. В шкафчике из кедрового дерева два платья, которые я надевала только по настоянию мамы. Достаю туфли с ремешками-застежками, и тут сквозь мою печаль пробиваются всполохи света.
Комнату заполоняет прошлое, будто мы снова все вместе. В горле першит, я задыхаюсь от призрачной невидимой пыли. Слезы тут как тут, вот этого не надо, плакать некогда. Бабушка Фейт велела вспоминать, а не реветь. Она догадывается о правде и о том, какую боль эта правда может причинить, если трусливо от нее прятаться. Мама теперь это тоже знает, наверняка.
Осипшим голосом я бормочу:
— Плачут только неженки. Или маленькие девочки с хвостиками.
Хорохорюсь я для духов, они же за мной наблюдают. Пусть видят, что я не размазня. Пусть убедятся.
Вываливаю на стеганое одеяло всю коробку, сокровища детства. Лезу в бумажные пакеты, открываю коробку из-под сигар, заглядываю в конверты.
Пасха. Я, взрослая тетка, еле сдерживая слезы, с маниакальной дотошностью ворошу вереницу лет. Ворвавшийся ветер расшвыривает мои сокровища. Я слышу смех. И мне кажется, что все это было всегда, ничему нет ни начала, ни конца.
Сколько же тут у меня всего! Детские рисунки, старый папин пленочный аппарат, кипа снимков, зеркальце с серебряной ручкой, набор для волос (только расчески, щетки нету), школьные тетрадки, речные и морские камни, письма, толстенные дневники, длинные космы испанского мха, обманы и признания, остовы сухих кленовых листьев, огорчения, красная помада, утраты, влюбленности, черный уголек. Все-все наружу, из самых потаенных уголков.
И остальное тоже подлежит изъятию из темных тайников, даже урна с прахом, наполненная маминой неукротимой душой. Мама часто говорила, что не желает, чтобы ее видели в безобразном виде, а нет ничего безобразней трупа, считала она. Потому и заставила дядю Иону кремировать ее до того, как с ней кто-то захочет попрощаться. Непременно до, вот такая у меня мамуля.
Я торопливо тасую снимки и наконец нахожу вот этот: бабушка на фоне своего огорода. С мамой на руках, совсем еще крохой. Неугомонный виргинский ветер, тот самый, минутой раньше разметавший по одеялу мои девчоночьи секреты, крепко прижимает подол платья к ногам бабушки, длинным и стройным. Солнце за ее спиной, и поэтому четко получился контур фигуры. Если бы фото ожило, бабушка перестала бы сдерживать улыбку, это точно. Она взывает ко мне. Мы с нею связаны одной кровью, и еще любовью к словам и поиску правды. Вот она и выбрала в рассказчицы меня. Я сумею ее понять. Я смогу.
Прямо сейчас и начну, пока еще не потускнел лунный луч, пока я еще не соскользнула с него в мамины объятия, в кольцо ее рук, рук когда-то меня оттолкнувших, и ведь никаких объяснений почему. Во всяком случае, объяснения были совсем не те, которые я хотела услышать.
— Истории становятся былью, когда их рассказывают, — шепчет бабушка.
Запахло яблоками и хлебом, только что из печи. Я жадно вдыхаю и никак не могу надышаться.
Гляжу в раскрытое окно, надеюсь, что с неба сорвется на счастье звезда. Далеко-далеко в ночной тьме вспыхнул свет — идет гроза? Осени, вёсны и лета, вот бы как представить свою жизнь. Не люблю видеть мир в мертвенно-холодном зимнем свете. Это у меня от мамы.
Устраиваюсь на кровати, скрестив ноги по-турецки, духи помогают моим рукам нащупать то, что нужно. Я погружаю пальцы в россыпь детских секретов. Начать надо, конечно, с мамы и папы, с того, как они встретились. Начало их истории — это начало меня. Слышу шум голосов, будто стрекот стрекоз и цикад.
Я расскажу про наши жизни, про свою жизнь, хочется оправдать надежды бабушки Фейт. Из окна своего детства я смотрю на луну и звезды, на мою гору, на тот отрезок жизни, которая еще впереди, и на тот, что уже прожит. Духи подсовывают мне нужные подсказки, и я выбираюсь на верную тропу, ведущую до самого верха.
Жизнь моя начинается сызнова.
ГЛАВА 2. Дотлевай, огарок![1]
1954–1961
Воздух благоухал чистотой, свежестью и запахами созревания. Призраки старых горцев присматривали за потерявшимися детьми, убаюкивали их, шелестя листвой деревьев, буйно разросшихся на горных склонах. В такой день не могло случиться ничего дурного. День щедрый на добро и благо. Тогда и повстречались мои родители, Фредерик Хейл Кэри и Кэти Айвин Холмс, и сразу накрепко полюбили друг друга.
Мама походила на принцессу из Древнего Египта, хотя выросла не во дворце, а в скособоченном домике, на одной из лесистых гор Западной Вирджинии. В своих простеньких ситцевых платьях и с грязными босыми ногами она все равно была иной, нездешней породы. Это замечали все. Это очевидно и на фотографиях, сохранившихся в дневниках бабушки Фейт. Это всякий раз отражалось на лицах мужчин, когда мама скользящей походкой шла мимо, оставляя в воздухе аромат духов «Шалимар» и дразнящей женской притягательности. Это отразилось на лице папы, когда он увидел ее, сидящую за кухонным столом бабушки Фейт.
Когда они сбежали, маме едва исполнилось восемнадцать, а ему уже стукнуло двадцать два, случилось это в субботу, в самую грозу. Дед воспринял побег спокойно, ему надоело отгонять ошивавшихся у окна дочки молодых кобелей, будто она сука в течке. Да и черт с ней. Одним ртом будет меньше. Одной шалавой, которой невтерпеж, чтобы ее обрюхатил какой-нибудь сопляк, ворчал дед. А бабушка, та хотела лишь, чтоб у девочки случилось в жизни что-то хорошее. Чтобы не так, как у всех остальных. Мама и сама не прочь была упорхнуть. Она вообще была вихрь, с неуемным зудом в крови.
А началось все так. Однажды папа по старой просеке для трейлеров забрел на верхотуру, в надежде сбагрить свои причиндалы для кухни. Откашлявшись, постучался в облезлую дверь. Обнюхав его штанины, старый одноухий Задира для приличия гавкнул и заполз под дом, это раньше он исправно гонял чужаков, правда давненько. Выпрямив спину, папа коснулся пальцами шляпы, приветствуя черноглазую женщину, открывшую ему. Лицо ее когда-то было красивым, но заботы и печали избороздили эту красоту морщинами. Подбоченившись одной рукой, другой женщина придерживала дверь, собираясь ее захлопнуть. Несколько густых длинных прядей, выбившихся из пучка, топорщил ветер.