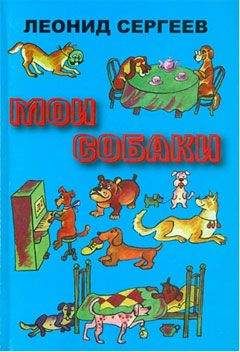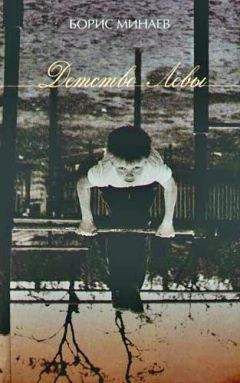Леонид Сергеев - Самая счастливая, или Дом на небе
— Притомились с непривычки. Ничего! Я вас, благородных, с тонкими пальцами…
Его сыновья сгребали сено как заведенные. Стоило кому-нибудь из них остановиться и смахнуть пот, тут же слышался громовой голос:
— Не отлынивай, Гришка!
— Ну и лоботряс ты, Митька!
— Хватит бездельничать, Петька!
За ужином дядя Вася хвалил нас с сестрой, особенно сестру (он давно хотел иметь дочку); похвалив нас, распекал сыновей:
— Вот лодыри, так лодыри. Только б им груши сбивать! — и дальше, в форме воспитательной лекции, говорил о пользе крестьянского труда.
После ужина дядя Вася отвозил нас на телеге в поселок. Первые дни мы валились с ног от усталости: болела сожженная солнцем кожа и ныли ссадины; постепенно привыкли — сами вскакивали чуть свет. Напьемся молока с хлебом и в луга.
Вскоре у дяди Васи и Аграфены все-таки появилась дочка. В то время девчонка выглядела некрасивой пучеглазой, но родители не могли на нее нарадоваться; когда она возвращалась из школы, встречали с букетом цветов и называли «наша красавица».
Аграфена плела потрясающие кружевные покрывала на подушки — крючком из простых белых ниток вязала полотна легкой витиеватой вязи. Мать и другие женщины в поселке покупали ее шедевры. Позднее, в эвакуации, за эти покрывала мать получила в деревне целый рюкзак продуктов.
По воскресеньям приезжали родственники (с бутылками вина, закусками и конфетами «раковые шейки» для нас, детей). Мать пекла пироги, складывала в корзину, отец взваливал на плечи самовар, брали патефон, гитару и отправлялись на озера в Тишково. Располагались на пропитанной солнцем поляне, шишками разжигали самовар… На природе все было вкуснее: примешивались запахи леса и озера… Купались, слушали пластинки, играли на гитаре, пели песни Козина, Лещенко, Вертинского, Руслановой.
Мой дед, высоченный здоровяк, выпьет, но не захмелеет, не обмякнет, не развалится, только покраснеет немного. Откинется — огромный, плечи развернуты, в холщовой рубахе — наберет воздух в широкую вместительную грудь:
— Ну-с, кого побороть?
Он не мог без борьбы. Вся его жизнь была борьбой. За лучшую долю семьи, за справедливость… Обхватит отца, поднимет в воздух и плюхнет на землю, потом перекидает своих сыновей:
— Слабаки! Что с вас взять-то?! — тихо выругается, перекрестится и попросит прощения у Бога.
Дед работал «почтарем»: начинал с почтальона, закончил начальником почты. Бабка всю жизнь проработала ткачихой на фабрике «Красная Роза». Оба верили в Бога и постоянно твердили матери, что меня с сестрой надо окрестить. Дед считал, что религия воспитывает совесть, зовет к добру, изначальным человеческим ценностям, что это не только вера, но и свод правил поведения, и что вообще нация без религии — безнравственный народ.
В начале войны дед послал письмо брату в Белоруссию, что «в Москве с продуктами плохо», после чего его вызвали на Лубянку и продержали два месяца. Он вернулся весь седой, собрал родню, выкинул иконы и публично отрекся от Бога.
Чаще всех на Правду приезжал друг отца инженер дядя Ваня, веселяга, остроумный насмешник. Он не входил в наш дом, а врывался, не уходил, а исчезал, пропахший хвоей, листвой или дождем, загорелый и улыбающийся, стриженый «бобриком», и непременно с цветком в кармане рубашки.
— Привет, осажденным семейными заботами! — кричал с порога. — А у меня нет ни жены, ни дома, зато полно приключений. У одиноких всегда полно приключений!..
И он рассказывал какое-нибудь происшествие, которое произошло с ним накануне или прямо сейчас по пути от станции… А потом самым серьезнейшим образом рассматривал мои рисунки, делал замечания, обозначал то, что я «просто обязан нарисовать», особо упирая на «живописные предметы» в поселке. В воскресенье с утра я всматривался в дорогу, а завидев дядю Ваню, мчал навстречу. И он ко мне спешил, махал рукой, кричал приветствие. Мы налетали друг на друга и обнимались. И возвращались к станции и пили до икоты газировку.
— Еще по стаканчику! — смеялся дядя Ваня. — Гулять так гулять! Но, бесспорно, здесь надо знать меру. Художнику на полный желудок скверно работается.
Как-то я нарисовал террасу, бочоночный круг, метлу из ореховых прутьев — больше не знаю, что рисовать.
— А что будет, когда вырасту? — поделился с дядей Ваней. — Все уже нарисуют, и мне ничего не останется.
— Ты что говоришь?! Ну, пусть нарисуют ваши дома, дорогу, электричку… Как бы охватят эти темы. А цветы чьи? А леса?! Забирай все! И небо в придачу. И рисуй! И пусть другие рисуют. Не жадничай, на тебя это совсем не похоже! Всем всего хватит, тут и говорить нечего…
«В самом деле хватит, — думал я позднее, вспоминая дядю Ваню, — ведь каждый открывает мир заново и видит его по-своему, по-новому, вбирает в себя то, что ему близко по наклонностям. И природа ни в чем не повторяется, каждая травинка отличается от другой, каждый цветок, каждая пчела».
Только однажды дядя Ваня меня расстроил. Уже ползли слухи о войне и, проявляя жгучее беспокойство, я привел в боевую готовность деревянное оружие, наделал глиняных гранат.
— Дядь Вань! А правда война будет?
— Если будет, я сразу удочки в охапку и в тайгу. Пережду заваруху где-нибудь у реки… А то еще кокнут, — он надул щеки и запыхтел, как бы раздувая свой позор.
Эх, дядька Ванька! Сильно я тебя ненавидел в те минуты! И презирал, называя «трусом», а ты нарочито серьезно оправдывался, ссылался на болезни, изображал хромоту… Где ж мне было знать, что ты одним из первых, не дожидаясь повестки, придешь в военкомат и уедешь на фронт, и в первые же дни войны сгоришь в танке где-то между Полоцком и Минском… Первая моя боль! Первая отметина на мальчишеском сердце… А сколько болей у отца? Сколько его друзей ушло на фронт, и ни один не вернулся!
Странно, дальнейшее, после Правды, — эвакуация и окраина Казани для меня — заброшенности, картины за пыльным стеклом… чтобы их рассмотреть, я стираю пыль, всматриваюсь, но они все равно год от года тускнеют, искажаются, покрываются защитной пленкой, непроницаемым занавесом, только станция Правда смотрится целостно и емко — тот короткий ослепительно радужный мир детства. Те дни — словно прохладная родниковая вода, которой никак не напьешься.
2.Для меня война началась, когда мы играли посреди поселка, и внезапно в небе появились самолеты с крестами; один завалился на крыло, вошел в пике, послышался нарастающий гул. Самолет низко пролетел над поселком и дал очередь из пулемета. Помню, в те дни в воздухе все время чувствовалась тревога; тревожно шумели деревья и тревожно кричали птицы, тревожно сигналили поезда; в смятении люди собирали пожитки и спешили к платформе, и чуть ли не дрались за возможность поставить ногу на подножку…
В поселок приехали грузовики. Первую машину перехватили Смеяцкие, пообещав шоферу «дополнительную плату»; погрузились и укатили, ни с кем не попрощавшись. Смеяцкие жили по ту сторону шлаковой дороги в доме лесника. Глава семьи, по прозвищу «денежный мешок» (он копил золотые украшения «на черный день»), работал на заводе снабженцем. Его жена и дети с утра до вечера собирали в лесу грибы, ягоды, орехи.
— Одних грибов продали десять ведер, — хвасталась Смеяцкая.
Они были хозяйственные, бережливые, у них ничего не пропадало — все шло в дело. Дети Смеяцких бегали к поездам — продавали колокольчики.
В тот же день прибыли еще две машины. В одну из них мы покидали наспех связанные вещи, мать с сестрой забрались в кабину, отец, я и Шарик — в кузов, и машина покатила в сторону Москвы. По пути шофер завернул в детский сад, и к нам в кузов посадили ребят с воспитательницей. У ребят на руках были бирки с фамилиями и адресами на случай, если потеряются.
В Москве остановились у деда с бабкой на Чудовке. Бабка начала распределять, кому что взять в эвакуацию, дед посмеивался:
— Все надо оставить в квартире. Война больше месяца не продлится. Наши в этой борьбе быстро победят.
— Да будет тебе! — вспыхивала бабка и сразу снимала портрет деда со стены. (Она во время ссоры всегда убирала его портрет в шкаф; потом помирятся — снова ставит на видное место).
Но скоро дед перестал усмехаться. Объявили, чтобы все сдали радиоприемники и замаскировали окна. На Крымской площади появились металлические «ежи» и зенитный расчет, над домами повисли воздушные заграждения, от магазинов потянулись длинные очереди — горожане запасали продукты, соль, мыло, спички… Теперь во дворе мы с сестрой собирали осколки бомб зажигалок и, подражая взрослым, «тушили» их в ящике с песком…
От тех дней остались одни запахи. Запах бабкиных цветов в горшках, которые до войны мы с ней выносили под дождь, запах фарфоровой собаки, причудливого коврика и выцветшего одеяла и подушек из перьев (в эвакуации спали на ватных), запах тряпья и истлевших книг в изломанной корзине на черном ходу, запах бомбоубежища и метро, куда бегали во время налетов на город, запах щей из крапивы, которую собирали на Воробьевых горах.