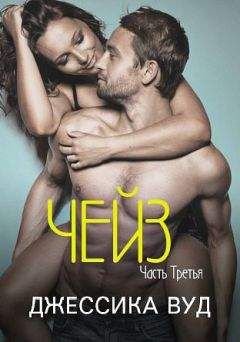Хуан Марсе - Двуликий любовник
— Мечтать-то оно хорошо, да только голову нельзя терять, — рассудительно заметил чистильщик Хотите узнать, что за счастливый случай столкнул вместе и заставил полюбить друг друга богатую девушку и оборванца, сына жалкой алкоголички, бывшей оперной певицы, и Мага Фу-Цзы, нищего артиста варьете? Сейчас расскажу.
Мы познакомились в центре «Друзья ЮНЕСКО» на улице Фонтанелла во время голодовки против режима Франко, организованной группой адвокатов и левой интеллигенцией. Я туда попал случайно... Стоял декабрь семидесятого года. Меня в то время интересовала фотография, и я часто ходил на всякие выставки. Однажды вечером, выйдя из кино, я зашел в центр «Друзья ЮНЕСКО», чтобы посмотреть фотографии, развешанные в вестибюле. Дело было перед закрытием, и внизу собралось человек двадцать, они оживленно болтали, не обращая на фотографии ни малейшего внимания. Я сразу понял, что пришли они туда не за этим. Никто не расходился, и я не заметил, как двери закрылись и мы оказались запертыми внутри: началась голодовка против процесса в Бургосе, на котором было вынесено девять смертных приговоров. Разумеется, все, кто собрались внизу, об этом знали — все, кроме меня. Помимо адвокатов, было несколько студентов, врачи, какой-то писатель и журналист. Ими командовала энергичная зеленоглазая дама-адвокат. Никто меня не замечал; многие здесь не были знакомы и потому думали, что я один из них, так что лишних вопросов мне не задавали. Их целью было прийти сюда в условленный час и, когда начнут закрывать двери, отказаться выйти наружу и остаться в вестибюле. Я сообразил, что к чему, подслушав обрывки разговоров и, главное, поговорив с одной молоденькой студенткой, которая спросила меня, кто я такой. Это была Норма. Я сказал, что представляю один каталонский театральный коллектив, известный своими антифранкистскими настроениями. Норма околдовала меня, и ради нее я решил примкнуть к голодовке. Это были четыре незабываемых дня. Мы ничего не ели, пили только чуть подслащенную воду и много курили. Помню, Норма зажигала сигареты спичками из салона «Боккаччо», легендарного заведения на улице Монтанер, которое облюбовали прогрессисты... Нам принесли одеяла, и мы спали на полу прямо в одежде. В течение всей голодовки мы с Нормой были неразлучны. Наша группа получила поддержку подпольного комитета рабочих, нас посетило шведское телевидение. С первой же ночи Норма спала рядом со мной. На рассвете последнего, четвертого дня, когда полиция взламывала дверь, чтобы вытащить нас наружу, моя рука была под одеялом Нормы, между ее ног. Никогда не забуду теплый шелк, мешавший мне продвигаться дальше, и смесь наслаждения и страха в глазах Нормы, когда замок был взломан и франкистская полиция ворвалась в вестибюль... Нас всех поволокли в участок, и мы с Нормой крепко держались за руки.
— Чудесный рассказ, сеньор, да...
— Она изучала каталонскую филологию в университете и была романтичной современной девушкой, — продолжаю я добивать и без того уже совершенно уничтоженного чистильщика. — Не спрашивайте, как она смогла полюбить меня, как вообще произошло это чудо. Вы, вероятно, подумаете — как подумали в свое время ее тетки и друзья, — что я женился из-за денег. Но сам я в этом совсем не уверен, судя по тому, как я вел себя потом... У Хуана Мареса печальная история, дружище. Это история человека, который в тридцать семь лет стал альфонсом, а потом так и не смог встать на ноги. Я был альфонсом, сам того не желая...
— Но душа-то у вас добрая...
— Несколько месяцев мы прожили с двумя старыми девами, тетками Нормы, на Вилле Валенти, в волшебном особняке в Гинардо. Всю жизнь меня притягивали его крыши, отливающие золотом, и безмятежный пруд с зеленоватой водой. А потом, следуя современной моде, Норма приобрела квартиру на улице Вальден, в некогда популярном здании архитектора Бофилла[2], в районе Сант-Жуст, там, где мы с вами, собственно, и находимся, сидя на заваленной башмаками кровати...
— Ради бога, хватит...
Он откладывает туфли, поднимается, собирает в коробку щетки и тюбики с кремом и смотрит на меня, сжимая банку с гуталином в руках, и терпеливо ждет, когда я закончу рассказ.
— Работы у меня не было, — безжалостно продолжаю я. — А раз нужда не заставляла меня зарабатывать на хлеб, я быстро оставил попытки что-нибудь подыскать. До знакомства с Нормой я служил в старинной лавчонке в готическом квартале, где продавал шляпы и перчатки, а иногда участвовал в любительских постановках в Грасии. К тому времени моя мать умерла, других родственников у меня не было (отец, фокусник, ушел из дома, когда мне было двенадцать), и я жил с одной неудавшейся актрисой в ее темной квартирке на улице Трех Сестер. С Нормой все сразу пошло по-другому. Мы с ней были романтической, чувственной и лишенной будущего парой. Эта связь не могла длиться долго, потому что ни один из нас двоих не знал, какого черта мы вместе и что нас связывает, помимо кувырканий в кровати...
— Не плачьте, ради всего святого...
— Вскоре Норма начала тяготиться своей зависимостью, и у нее начались депрессии, которые через год привели к двум грязным романчикам: сперва с официантом, потом с таксистом.
— Запутаться каждый может, вы же понимаете...
— А теперь вот с чистильщиком обуви, которого она подцепила неизвестно где, в каком-то баре... О, святые небеса!..
— Забудьте все это. Ваша жена любит только вас.
— Потерпите, уже немного осталось. Четыре года — столько длился наш брак — я засыпал рано и видел чудесные сны. С самого детства я мечтал уйти далеко-далеко, подальше от нашего квартала, от дома, от тарахтения «Зингера», за которым сидела моя мать, от ее старомодных опереточных арий, пирушек и опустившихся друзей по труппе. Все мои мечты осуществились с Нормой. А теперь все потеряно.
— Слушайте, мне пора. Дождь кончился.
— Останьтесь еще немного.
— Нехорошо это, сеньор, честное слово. Вот, я вам тут всю обувь почистил.
Завороженный, я смотрю на батарею вычищенных туфель и ботинок, которые сверкают на кровати, выстроенные в ряд. Они словно улыбаются мне. Тут меня осеняет, что я должен ему за работу. Он уже в дверях.
— Вы с ума сошли!
— Что мне еще остается, разве пулю в лоб пустить.
— Не болтайте ерунды. Всего доброго. Лучше пойдите поищите вашу жену.
Еще долго я не двигаюсь с места. Норма уже никогда не вернется в нашу квартиру на улице Вальден в доме номер семь: она отправилась к своим теткам на Виллу Валенти и наутро прислала служанку за одеждой и вещами. Пару раз мне удалось поговорить с ней по телефону, но я так и не убедил ее вернуться. Она сказала, что я могу оставаться в нашем доме сколько угодно (квартира до сих пор записана на ее имя) и что она не собирается вышвыривать меня на улицу. И больше ничего обо мне не захотела знать.
Терпеливый чистильщик уходит, и я снова слышу удар двери внизу, на этот раз не такой сильный. И одновременно передо мной распахивается другая дверь: та, за которой меня ждет нищета, крушение надежд, головокружительное падение в бездну одиночества и отчаяния.
2
Много лет назад, когда Марес был одиноким подростком и, нацепив на лицо черную маску, продавал потрепанные книжки и комиксы на пустынных перекрестках квартала, он мечтал, что, когда станет старше, напишет удивительную книгу, которая будет начинаться такими словами: «Много лет назад, когда я был одиноким подростком и, нацепив на лицо черную маску, продавал потрепанные книжки и комиксы на пустынных перекрестках квартала, я мечтал, что, когда стану старше, напишу удивительную книгу, которая будет начинаться такими словами...»
Теперь он сидел на грязном ледяном тротуаре Раваля, одетый в лохмотья, вдали от родного дома, и держал в руках аккордеон. У его ног, на разложенной на асфальте газете, лежало несколько монет, брошенных прохожими. В свои пятьдесят два года Марес выглядел моложе: его молодил след от ожога, появившийся на лице после того случая, когда группа каталонских националистов устроила манифестацию прямо на Рамбле. В тот день, три года тому назад, он точно так же сидел на тротуаре, как вдруг кто-то из манифестантов швырнул бутылку с зажигательной смесью, да так неудачно, что она разлетелась вдребезги прямо перед ним. Пламя искалечило его руки и навсегда нарисовало на щеках причудливую печальную улыбку. Брови у него с тех пор не росли, их приходилось пририсовывать черным тупым карандашом; зато на переносице по весне появлялись длинные черные волосы.
Когда тоска и горечь воспоминаний становились невыносимыми, он наклеивал рыжеватые элегантные усики, и это несколько оживляло его безмятежно-унылое, без единой морщины лицо. У Мареса были высокие гладкие скулы, жидкие волосы и медового цвета маленькие живые глаза. Сидя на тротуаре со стареньким аккордеоном в руках, он бойко наигрывал пасодобли[3], а висящий на его груди плакат гласил: