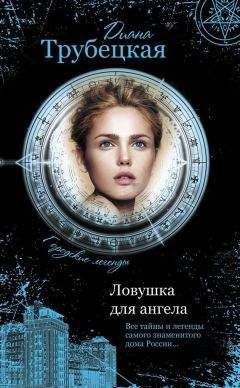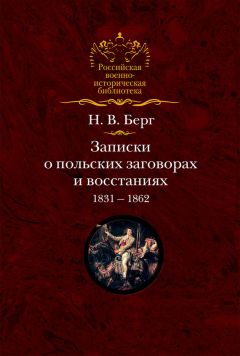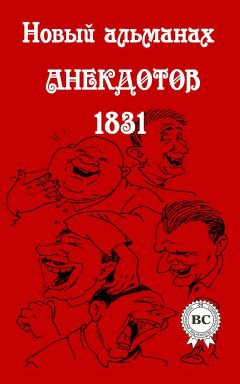Олег Павлов - Асистолия
Мальчик, этот мальчик… Теперь к нему возвращается белый летний день, похожий на сон. Люди, что собрались в квартире и ждали. Казалось, это его встречают и даже робеют, глядя как на более сильного. Каждый хотел сказать что-то заботливое или хотя бы коснуться рукой. Он чувствовал себя очень взрослым. Слышал много новых непонятных слов. Важно молчал в ответ. Хмурился. И устал, эта игра ему надоела. В том своем сне он так и не встретился с матерью, может быть, она что-то говорила ему, даже обнимала, но этого не осталось в памяти, зато он помнил, что спрятался в своей комнате, разделся, лег под одеяло и вдруг еще раз уснул. Утром мальчика разбудила чужая женщина — в притихшей квартире хозяйничало их несколько, по-матерински уверенных в себе. Он сразу подчинился, исполняя все, что говорили делать, как будто перенесло это в пионерский лагерь, где по команде воспитателя начинался новый день. Пахло празднично едой. Не по своей воле нарядно одетый, мальчик волновался, ждал появления родителей и боялся спросить о том, куда они исчезли. Если бы не странные приготовления к празднику, он бы и не вспомнил, что сегодня почему-то должен расстаться с отцом. Унылой чередой порог дома переступали люди в темных одеждах… Застывшие, как маски, лица родных и близких еще хранили почтительное молчание. Казалось, успев отяжелеть, гости медлительно рассаживались за накрытым для них столом, не занимая места хозяина.
“Мама, а где папа?”.
Огромные глаза. Ни жалости, ни страха. Схватила за руку… Отводит в маленькую комнату. Глохнут звуки. Никто не услышит. Шепчет что есть силы: “Папы больше нет. Он умер”. В тот миг, когда он слышит это, ему хочется улыбнуться. Хочется, чтобы мама поскорее превратилась в добрую, прежнюю… Но делает еще больней, так больно сжимает руку: “Запомни, папа очень сильно тебя любил!”. И судорожно-багровая гримаса ломает ее неприступное лицо; состарившееся, дряблое, оно морщится, отчаянно обиженное на весь мир, и сквозь зубы доносится только мычащий утробный стон… Через минуту принимает гордый вид. Спокойным, хоть и дрожащим голосом внятно произносит: “А сейчас мы уделим внимание гостям”.
Мальчик напуган матерью, не понимая, в чем провинился. Посаженный за стол, чувствует себя наказанным, как если бы и сделано это было, чтобы выставить его на всеобщее обозрение. Мама может быть и такой — злой. Она причинила ему боль, когда схватила за руку и говорила с ним так, будто жалила словами. Мальчику хочется, чтобы его пожалели, он мог бы заплакать, но, рассерженный и жалкий, тужится, молчит, не желая признавать поражения. Он никому не нужен. Стоило это подумать — в душе проклюнулось что-то сиротское. Он тоже не будет никого любить. Тем временем мужчины за столом оказывают маме знаки внимания. Они как бы присваивают маму — а та безвольно подчиняется. Сын вдруг оскорбляется не за нее — за своего отца… Где же он? Почему мама запретила спрашивать об этом, хотя все люди, что собрались за столом, встают как дурачки и произносят о нем по очереди свои глупые речи, хотят их с мамой обмануть, чтобы думали, будто он уехал и больше не вернется домой. Маленький мученик завтра ничего не вспомнит, но вряд ли догадывается об этом, и родится заново: все забудет, всех простит, всему с появлением своим же на свет удивится… Уснуть, чтобы воскреснуть. Так суждено до тех пор, пока лишь сон пугает, кажется смертью. И есть только завтрашний день, и этот путь к нему, единственный. Прячешься под одеялом или караулишь, ощущая глубоко в груди биение, похожее на тиканье часов, глаза все равно сомкнутся, даже если очень долго терпеть — а миг, что подобен смерти, ничего не давая почувствовать, неуловим. Поэтому так одиноко засыпать в темноте. Стоит закрыть глаза, погружаешься в страшноватое странствие. Сам он не понимал, почему кончается небесный свет и зачем нужно взойти на вершину дня, чтобы тоже вдруг исчезнуть… Почему разлучается каждую ночь с жизнью, ее красками, звуками, ароматами… Знает, все люди ложатся спать, но ни с кем не встречался, когда блуждал в лабиринтах темноты… Но что-то заставляет смириться перед неизвестностью: закрыть глаза. Отдать все силы жизни: уснуть.
Это было так понятно, легко: все должны его любить, и все существо, хоть и было сгустком желаний, любопытства, тянулось только к этой любви. Оно создано для любви, с первых же дней получая ее в утешение за малейшее страдание, о котором оповещало криком и плачем. Оно, это существо, привыкло получать наслаждение. Наверное, самое сладостное — когда перед ним чувствовали за что-то свою вину и стремились ее искупить.
“Что, сладко? — дав вкусить дедову приманку, жалея, усмехнулась, подобрев, бабушка. — Вот и рыбам сладко…”.
Чертыхаясь, недолюбливая то, что делала, бабка до вечера варила что-то густое, совсем уж зло месила коричневатую гущу, пока не получилось тесто — а когда было готово, подозвала, сказала закрыть глаза… и скормила прямо со своих рук комочек. Тот растаял во рту неведомой сладостью, отчего мальчик, проведя весь день в послушании, за что и был, наверное, награжден, ослаб, замлел…
Он уже боялся не успеть.
Спешила, изнывая трепетом, душа.
Дед поднял его засветло — казалось, пришел за ним из ниоткуда, и мальчик собрался, будто по команде, похожий на солдатика. Бабушка спала, не вставала. И было удивительно чувствовать себя живым в пустующей тишине, где нельзя громко говорить, тревожить покой погруженных в самих себя вещей, даже ходить еще нельзя…
Когда ехали как будто в одном на весь город, отчаянно дребезжащем трамвае по безлюдным вымершим улочкам, их уже заливало солнце.
Дедушка всю дорогу молчал. Может быть, потому, что никогда не брал с собой кого-то на рыбалку — и привык молчать.
Они ехали на остров, в домик. Дощатая будка, даже без окошек, но под покатой крышей, посаженная основательно на фундамент, стояла много лет. В домике всегда пахло речной сыростью и было прохладно. Этого и хватало деду для ночевок. Лишь железная панцирная койка умещалась между стен. Неподалеку стол со скамейкой, вкопанные в землю. Приезжая наслаждаться солнцем, рекой, воздухом, здесь обедала семья.
Крылечко. У крылечка — бабушкины кусты роз.
Внутри, где темно и сыро, — удочки, спиннинги, блесны, грузила, крючки… все, что не разрешалось трогать. Все, что принадлежало деду. Опасное и тайное, как оружие, нужное, чтобы отнять у реки то, что прячет в своей глубине. Оттого ли, но в этой темноте мальчику мерещилась глубина, будто жила здесь, таилась, чего-то дожидаясь.
Остров был зоной отдыха — с пляжами, пивными ларьками, аттракционами. Но это место находилось в стороне от пляжей и отдыхающих. Огромные лошади паслись прямо в дубраве за калиткой: стреноженные, они тяжко, прыжками, передвигали свои исполинские застывшие фигуры, разбредались, будто прячась за стволами деревьев и созерцая друг дружку. Взгляд завораживали путы — толстые канаты, навязанные узлами. Этого мальчик не понимал — отчего такие огромные и сильные существа терпеливо подчиняются людям. Сам он боялся стреноженных исполинов, и лишь за калиткой унимался его страх.
Один, без родителей, все лето мальчик вдоволь купался, загорал.
Река манила, нежила.
Бабка, устав, тоже искала для себя свободы.
Мальчик легко уговаривал исполнить свое последнее желание — и возвращались они на катерке. Это было то время суток, когда люди исчезали, оставляя пляж помятым, истоптанным, а на воду, придавливая, ложилось тенью что-то холодное и темное, над чем кружили, будто каркая, чайки. Понтонная пристань, чуть покачиваясь, принимала свое суденышко прямо у пляжа. Оно переправляло на другой берег, хотя над рекой был перекинут огромный пешеходный мост.
Мальчик радовался.
Бабушка покупала два билета.
В ожидании катера становилось зябко.
Уже не обдувал, как на пляже, а прохватывал свистящий ветер. Но босые ноги чувствовали, будто впитывая, приставшее к железному кожуху тепло — и гулкое, что колыхалось под днищем. Стайки черных от загара ребят еще рыбачили на понтоне.
У него никогда не было своей удочки.
Чужой, он завидовал — и боялся подойти.
Причаливал катер. Его последнее желание исполнилось. Можно было занять любое место, и оказывалось много свободных, на лавках, что крепились по борту. Катер содрогался, рычал — и утихал, набирая ровный, сильный ход. Тот берег терялся, сквозил тонкой песчаной полоской. За бортом ворочались жирные черные волны. Уже на середине реки ветер каждым махом резко, почти больно, окроплял лицо брызгами, отчего мальчик зажмуривал глаза. Но вдруг открывался вид во все стороны света. И он забывал о страхе и боли, зависть и тоску, чувствуя себя то ветром, то волной, то исчезающим вдали берегом… Потом он обнаруживал себя среди таких же праздных людей, что провели весь день на пляже. И делал то же самое, что они, вытряхивая однообразно пляжный песок из туфель, которым оказывалась усеяна вся палуба. Когда катерок приставал к берегу, одетому в гранит, жизнь опять делалась обыденной и маленькой, какой-то ненужной — а катерок уже вгрызался в реку, отправляясь туда, где его ждали.