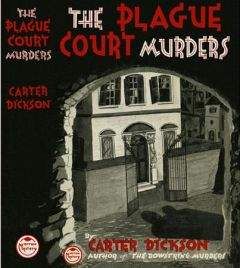Дмитрий Козлов - Я уже не боюсь
В кармане звонит телефон. Я прикрываю рукой надтреснутый экран потертой «Нокии» (вчера взял в ломбарде на Ломоносова) от солнца и округляю глаза: Маша.
— Да?
— Карась, ты?
— Ну а кто еще? Это ж мобилка.
— Да, извини…. Не хочешь ко мне вечером заскочить? Повисеть, коньячку попить…
— А родичи?
— В Фастов погнали, деда проведать.
— Не вопрос. Тока в восемь и с Китайцем.
— Ладно, давай в восемь с Китайцем… Зацепите в прокате фильмец какой-нибудь.
— Окей.
Я вдруг осознаю, что рядом валяется Жмен, и ему — с его-то паранойей и ревностью — вряд ли понравится, что мы с Китайцем зарулим вечером «на коньячок» к его вечно то-ли-бывшей-то-ли-нынешней девушке. Но беспокоиться уже не о чем: Жмен совсем скис и спит, уткнувшись лицом в траву.
— Какого хрена вы меня Китайцем прозвали? Я что, на китайца похож? — спрашивает Китаец, который никак не может смириться с новым прозвищем.
Это правда: бородатый, кряжистый и низкорослый, на китайца он совершенно не похож. Все объясняется просто — однажды, где-то с год назад, мы все тусовались у Сони Столярчук. Вова Шмат с хозяйкой закрылись в спальне, а мы со Жменом, Машей и Лехой Кузнецовым — пока еще по кличке Кузя — смотрели телик. Там по «М1» как раз шел мультяшный клип «Gorrilaz», «Clint Eastwood», и, заметив на экране маленькое существо с гитарой — по легенде группы, японскую девочку Нудл, — Маша рассмеялась:
— Смотрите, китаец — это ж Кузя!
Кузя тогда совершил страшную ошибку: обиделся и попытался сопротивляться. В результате прозвище, которое в противном случае умерло бы, едва родившись, срослось с ним намертво.
— Не знаю, Китаец, мне по херу. Идем, — говорю я, поднимаясь и чувствуя ту противную пародию на сытость, что бывает только от чипсов и пива натощак.
Выбравшись из парка к проспекту, мы заскакиваем в гастроном, где рядом с хлебным отделом прилепился ларек видеопроката. Пухловатая девица, которая там работает — то ли одноклассница, то ли с параллели Вовы Шмата, — курит у входа в магазин. Дожидаясь ее, мы берем пару пакетов вишневого сока и сигареты. Когда девчонка возвращается за прилавок, я беру «Васаби» — небритая харя Жана Рено на потертой коробке оставляет надежду на приличное кино. Хочется, честно говоря, взять «Джиперса Криперса», но Маша вроде ужастики не любит.
Когда мы поднимаемся к Маше на четырнадцатый — у нее в парадном такой стремный древний лифт, где нужно вручную закрывать двери, — я слушаю скрипы и скрежеты старого механизма, чем-то напоминающие вечно гремящую у Жмена дома музыку. Как бы старая хрень не застряла…
Не застревает. Выходим, прорываемся через завал какой-то древней рухляди, которую Машина соседка хранит в коридоре, звоним в дверь.
Маша похожа на пугало после урагана. Всклокоченные волосы, косметические кляксы на блестящей от слез коже, покрасневшие шальные глаза…
Да уж, сходила со Жменом в кино.
— Проходите… Извините, что…
Она указывает на себя рукой. Жест получается какой-то дерганый и нервный. Разуваясь, думаю, до чего же Жмен ее довел. С его слов, во всей их ругани всегда виновата Маша, но на самом деле все, скорее, наоборот. Просто она терпелива. Выносит все его выходки. И все время думает о нем. И говорит. И молчит тоже о нем.
Странно вдруг понять, что у кого-то жизнь тоже дерьмо.
Из-под стойки для обуви шипит Маркиз — полосатый котяра той особенно злобной разновидности, у которой серая шерсть отдает зловещей зеленью. С кухни гремит Мэрилин Мэнсон — «рок из дэд» и все такое… На экране телика расцветают ярко-оранжевые взрывы в горах Чечни.
Схватив пульт, Маша врубает «М1» — там «Блестящие» пляшут точно в такт реву Мэрилина из старого приемника.
— Извините, у меня тут мало чего есть поесть… — бормочет Маша, ковыряясь в холодильнике.
С грязно-серой двери падает магнит с якорем и надписью «Севастополь» — память об их со Жменом совместной поездке в лагерь, в которой они вроде как только и делали что ругались и спали, но теперь вспоминают этот вояж с неизменной ностальгией.
Маша нагибается, чтобы подобрать магнит, и обрушивает с полки кастрюлю с фасолью. Та шрапнелью разлетается по кухне, рикошетя от кафеля и плюхаясь в кошачью поилку. Сидя на корточках, Маша вся сжимается, прячется в свою черную футболку и становится похожа на скомканный бумажный лист.
Я понимаю, что она сейчас начнет рыдать, и принимаюсь собирать фасолины, похожие на каких-то насекомых, приговаривая:
— Ничего… Ничего… Хрен с ней, с фасолью…
Маша встает и смотрит на меня: глаза блестят, но слез нет. «Должно быть, в теле уже влаги не осталось», — думаю я, вытаскивая фасоль из-под стола. Девушка странно смотрит на меня, и когда я наконец читаю этот взгляд, то думаю: «Только этого мне и не хватало…»
Маша достает из серванта бутылку коньяка «Ной», который вечно дарят ее отцу-доценту в КПИ и который мы отчего-то прозвали «Цой».
— Жмена видели? — спрашивает она, разливая по старым хрустальным бокалам янтарный напиток и совершенно не пытаясь скрыть дрожь в голосе.
— Видели, — кивает Китаец и хлопает коньяк, не дожидаясь остальных.
«Опять нарежется за полчаса», — думаю я, открывая пакет с соком.
— И как он?
Я машу рукой: мол, по херу.
Говорим про школу, про море, про Аврил Лавин и новый секонд на Теремках. Дешевые часы на стене, которые Маша как-то получила по акции, купив в ларьке две пачки «Честера», отщелкивают час, потом другой…
— Китаец, не впадлу, метнись кабанчиком в «ЭКО» за коньяком… — говорит Маша, вернувшись с балкона.
Ее пошатывает, в руке дымится недокуренная сигарета, пепел падает в горшок с хризантемой на подоконнике. Сквозняк бросает черную прядь на ее бледное лицо, засыпает его волосами, и я смеюсь от проявившегося на миг сходства с девочкой-призраком из «Звонка».
— Так в серванте ж вроде есть еще… — лепечет Китаец, бессильный распознать витающие в воздухе намеки и желания. Он копается в дисках на полке над телевизором и как раз собирался воткнуть в магнитофон сборник хитов «НIМ».
— А я говорю — сходи! — выпаливает Маша, резко и с ноткой истерики. — Это отцовский, мне попадет… Там и так уже в каждой бутылке чая до фига долитого…
Вонзив окурок во влажный чернозем под цветком, она смотрит на меня и улыбается столь плотоядно, что даже Китаец бормочет:
— А-а-а… Понял, уже иду…
Когда за ним хлопает дверь, я прикидываю, что до круглосуточного супермаркета и обратно, с учетом очереди на одной работающей кассе, он доберется где-то за полчаса. Я оборачиваюсь и вижу Машу — совсем близко. Она впивается в мои губы так, что клацает зубами о зубы.
— Хочу… — шепчет она, отстранившись на секунду, и вновь прижимается.
У меня в голове гудит, по телу ядерным взрывом прокатывается мощный прилив желания.
— Хочу… — вновь бормочет Маша, отшатнувшись и оставив мне терпкий вкус сигарет.
— На балкон. Курить, — хриплю я.
Свежий ветер несет из парка запахи листвы и остывающей земли. Пока я прикуриваю сигареты себе и Маше, ее рука начинает расстегивать мой ремень.
— А Жмен? — вяло бросаю я, глядя за ее спину — на старую кровать, где обычно спит Машина мама, когда жара и духота становятся невыносимы.
— На хрен, — злобно шипит Маша.
В ее мутных глазах отражаются огни окон соседней девятиэтажки. Голова наполняется обрывками разорванных спиртным мыслей, и, не совсем понимая, что делаю, я начинаю стягивать с Маши футболку… Остатки разума направляют глазам предостерегающую картинку в виде рожи Жмена, но когда рука Маши наконец справляется с ремнем и джинсами, жар возбуждения заливает тело доверху, я представляю себе Юлю и мигом посылаю все к чертям. Где-то там, где еще секунду назад мерцало сознание, воцаряется бесконечное, бездонное, спасительное чувство близости. Реальность рассыпается, словно мне удалось соскочить, спрыгнуть на параллельную ветку, в другой мир, где мы всегда были и будем вместе, никто не умирал, и ничего и никого другого никогда и нигде не существовало…
Вернувшись, Китаец находит нас на кухне, растрепанных, шальных, с лицами, блестящими от пота. Воздух будто гудит, как под высоковольтной линией. Я стою, прислонившись к холодильнику — другие магниты тоже попадали на пол, — а Маша смотрит в темноту за окном и вертит в руках серебристый блеск для губ «Oriflame». Я напялил свою футболку «I Love New York» шиворот-навыворот, Маша набросила отцовскую клетчатую рубашку. В ярком белом свете кухонной лампочки, с лихорадочно блестящей кожей, она похожа на мокрый пластиковый манекен.
— Ребята, там ничего из дешевых нормального не было, так я… — начинает Китаец, доставая бутылку «Хортицы» из рюкзака.
— Уходите, — тихо, не оборачиваясь, говорит Маша.