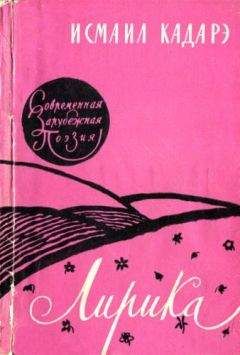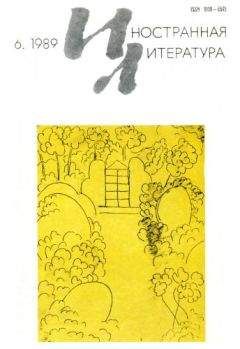Александр Гольдштейн - Помни о Фамагусте
Даглинцы были обугленные. Даглинцев боялись, страх был всеобщим. Лютость кипела и булькала в них, жеманных и прециозных, накрытых тенью ресниц, со вздернутым рельефом подбородков. Могли пустить бритву, дремавшую в рукаве, в сомкнутой ладони, безвредно для горцев, даром не уронивших ни капли крови своей дорогой. На Парапете их окружали тревога и преклонение. И страшней лезвия прицепленная к лацкану фотография умершего родственника, атрибут горского титула, символ вплетенности в смерть, в ее венок, состоявший, по их убеждению, целиком из даглинцев. В давние времена фото усопших прицепляли все азерийские мужские сословия и союзы, даглинцы узурпировали городской ритуал, лишь они теперь почитали родню фотоснимком на лацкане, а нарушителя, если забылся и обезьянничал, резали ручонки артистов. Неусыпно озирали плоскость горцы, исполосовать негодяя. Противодействия не было, не возражала милиция, так надо, стерегут свою бдительность касты. Скапливаясь в кольцах нагорья, на Парапет шли порознь, наособицу, без пальто и без шапки из меха, всегда пиджак, и широкая кепка, и узкие черные остроносые туфли под коротковатыми, зауженными в дудочку брючками. Кепки шила артель горбунов в бункере у Сабунчинского вокзала. Хозяин артели, тат-иудей (формально лавочкой, и всем в стране, распоряжалось государство, но в этом городе на юге — формально), нашел выход из тупика, куда его загнал, дважды сорвав срочный заказ, предыдущий состав лоботрясов, — нанял пятерых маленьких, бурдючок на спине, божьих созданий, двух духоборов и трех молокан, отличавшихся исключительной честностью и сноровкой труда. Не в один заход собрал он убогих, ни на йоту не ощущавших убожества, державшихся с вежеством мастерового избранничества, намагниченных ремеслом, как цеховые гномы Средневековья. Десятки, сотни углов и подвалов облазил на карачках иудей, прежде чем нашел удивительных кепочников и — ублажил, улестил. Горбуны не торговались о деньгах, испросив себе скромный, не унижающий их представлений оклад; условием своего пребывания в бункере выставили они сменяемую раз в три дня постель, приготовленную по сектантскому рецепту лапшу в глубоких толстостенных мисках, жигулевское пиво от Алика-Алекпера Рокфеллера (для духоборов, молоканам нельзя, этим сливки и молоко, привозимое из-под коровы дояркой), игру в шахматы перед сном и неограниченность творчества, шить аэродромы, как они, умельцы, понимали задачу. Хозяин забормотал: что вы, что вы, есть канон, есть шаблон, даглинцы убьют за извращение рубчика, строчки. Это мы берем на себя, сказал старший горбун. Наниматель сунул под язык валидол.
В семь, позавтракав, из Голубиной книги вполголоса пели протяжно, приятно, град затонувший, далекая мать во пустынной густыне, и шили до половины второго, до молочной лапши на обед, там, отдохнув, опять брались слаженно, ладно, у хозяина в горле растроганность, отужинав, передвигали фигурки, били по кнопкам деревянных часов и, помолясь, в тихий сон, чтобы с радостью утром начать. По воскресеньям не притрагивались к работе, их навещала по воскресениям сестра Валентина. Ах, Валентина, Валентина, вздыхали горбуны. Голуби вы мои, расплывалось печеное яблочко.
Молодость провела Валентина под Нарвой, в монастыре. Она любила монастырское житье. Ветер с Балтики трепал гривы лошадок, впряженных в колесницу белых ночей; в деревянные бадейки собирала смородину, крыжовник, морошку, пила колодезную воду, затворялась в келье, а зимою был снег. Ее не отряжали на работы по принуждению и обязанности, работы для утомления сил, от природы не очень выносливых, Валентина была достояньем киновии, доходной статьей гладкопесенных вышиваний, мастерицею ликов, осиянных и воссиявших той хмурой, надчеловечной и потому сострадательной сообщительностью, что единственно отвечала цвету небес над северным изводом веры. Дни в обители текли плавно, как мед, доставляемый пасечником, ветераном вооруженных сражений, навек изумленным, в сапогах и танковом шлеме, будь проливень на дворе, сухой морозец или предгрозовая, спеленутая дымкой духота. Дед мало вступал в разговор, подозревая в сестрах сосуды отложенного назначения, забытого до лучшего срока, когда приспособленность их к некоему делу, если все дела до тех пор не потухнут, станет явной, и беседа пойдет на равных. В скудели по имени Валентина скопилось довольно жидкого, а может, сыпучего вещества, чтобы оправдать обмен речениями, но пасечник не представлял, на какую нить нанизывать словесные дары и с какой их снимать. К тому же говорить он умел о Корсунь-Шевченковском, где был контужен тридцать лет назад, и ни о чем другом, а память, убитая взрывной волной и ее не запомнившая, молчала, как молчало вожделение или голод по богатой пище, с которой деда не ознакомили.
Работы Валентины, уподобительные на далеком этапе, миновали второй, гобеленный и фресковый, производя из крылатого своего возрастания третий — обращение к свидетелю, дабы в дыхании вышивальщицы, в ее вдохе рассветном и выдохе, туманящем свечной язычок в отражении на закате, в паузах, в разной длительности произнесенья стежков свидетель зачерпнул бы свой собственный ритм, от поводыря независимый, но ему благодарный, как первоистоку пульсаций. Проникновенность вышиваний источалась соболезнующим гнетом строки, мнимо беззвучным ее вмешательством, и когда человек затомленный, семейный и многосемейный, в таракане запечном видевший свою аллегорию, поднимал глаза к трудам Валентины, он дышать начинал, как она за работой, залечивая, пока длился просмотр, больные края своей жизни. Круглые сутки водила иглой, поспеть к яблочному Спасу; поспела: Святая Дева-заступница, Роза, милостью полыхала из пунцового золота. Валентина улыбнулась своим кропотливым стараниям и отвеяла суетность от себя. Все-таки предвкушала она, что ее похвалит игуменья.
Латинский уклон, скривилась настоятельница. Римский дух и тлетворность, стыдись грехов своих, перстов поганых. Содеянное наказываю распустить, поделом тебе, вспомянешь мою доброту. Игуменью качнуло вбок. Удобно, не боясь падения, она легла кулем на свежую девку, принятую ухаживать за ней, та пошатнулась, но осанку вернула и, ластясь к привалившему счастью, проволоклась с грузом по коридору — невыгадывающая услужливость обрусевшей чухонки была такой же редкий слиток, что и талант вышивальщицы, и могла его заменить.
В келье Валентина сказала молитву. Обиды не чувствовала, пустое равновесие вследствие лобового столкновенья внутри не покрывалось обидой — что обида, разрушился дом времяжизни, между нею и соснами в дюнах не было больше преград, и Валентина задумалась, возводить ли на скорую руку новые или же дать себе отдых, оставшись в пейзаже. Поднимался утренний ветер, когда, ничего не решив, она уснула на час. Как странно, читала она за ресницами, точно буквы нарисованы были перед ней на стене, если Заступница моя заступается, не достигнута ль этим и цель, но не позволила веревочке сомнения развиться.
20 августа Валентина уложила в сундучок смену белья, грубой вязки платок, несколько фотографий, пару яблок, полхлеба и ушла из обители. Не так долог был путь, день пеший с привалами, перекусить и напиться воды из-под крана. Тетка перемогалась в бедности, да толики денег, завещанных покойной сестрой, Валентининой матерью, не растратила; поцеловав женщину, племянница разделила наследство, железнодорожный билет в плацкартный вагон был из маленького твердого картона, прокусанный компостером-хорьком. Скудная родина поехала вдоль зрения, у дощатого настила, подгнившего от невнимания людей, впалая рылась в отбросах собака, белобрысый ребенок размешивал в луже карбид, сомкнутый на мокрых платформах народ ждал врага, оккупации, плена, убийства, этим можно было объяснить усталое пренебрежение к судьбе, охватившее лица, одежду, бутылки, газету, курево с отгрызанным фильтром, все организмы и вещи, и покатили, помчались под сизым дождем леса, перелески, поляны, овраги, пристанционные будки, желтоглазые, неизбывной печалью объятые домики-хатки, а перед тем как вернуться из прохода на койку, Валентина увидела обходчика русских путей в кирзе, картузе, с фонарем и понурую шпалоукладчицу в оранжевом (рыжем?) жилете. Прислонился сосед и позвал в ресторан, которого в этом поезде не было; тогда в тамбур, предложил командированный. Они вышли в грохот и лязг, став на елозящее, дугообразно выгнутое борцовским мостом железо. Тряска оказалась для него, пьяноватого, скверным сюрпризом, так что он захотел сразу, пока не разъехались ноги, потрогать ей грудь, а правой клешней, если получится не упасть, зацепиться за юбку. Она не отклонилась, не сдвинулась, лишь посмотрела в глаза, задержав на них взгляд. Д'ладно подруга ты чо я же просто, заверещал мужичонка, подобрав отвисшую челюсть. Он и годы спустя не мог разгрызть причину внезапного ужаса, ибо лед отрезвления сковал его от макушки до пят, ни столь же острого, не знакомого ему дотоле раскаяния, ни радости от того и другого, но в его буднях посыльного, великовозрастного мальчонки на побегушках, не доросшего до купейных составов, немного было эпизодов, когда — уж это он сображал, пусть и не умел сформулировать — неудача знаменовала победу, и главным, единственным он обязан был той, чьего имени не спросил.