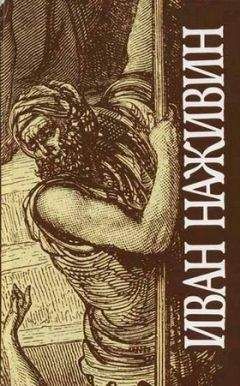Алексей Леснянский - Ломка
Отец рубил дрова, а мать убиралась в угольнике. Услышав мужа, подошла. Митька стоял тут же, виновато понурив голову.
— И что нам с тобой делать, Митя. Совсем от рук отбился… А ну-ка дыхни, — сказала мать.
Митька повиновался.
— Чё? — спросил отец.
— Да пахнет от него, вот чё. Табачищем за километр прёт. И без водочки дело не обошлось. Рази-и-ит. Против спирту воевал, воевал — и до того навоевался, что напился на радостях.
— Не пил я, правда, не пил. Мы вчера… А ладно, всё равно не поймёте.
— Что же это мы не поймём? Иль умнее нас себя считаешь?.. Хватит с нас, отец… хва-а-атит.
Глава семейства снял ремень, и Митька понял, что на этот раз расправы не миновать. Было обидно, что сейчас влетит ни за что.
— "Кричать не буду, с места не сдвинусь", — подумал парень.
Сыромятная кожа осиным жалом впивалась в тело. За семнадцать с гаком лет Митька впервые страдал несправедливо, а потому на каждый взмах отцовской руки злобно огрызался, чтобы хоть как-то утихомирить боль. Ремень с методичностью рассекал воздух, чтобы через секунду вновь вонзиться в загорелую спину, красным рубцом оставить след. Отец уже начал выдыхаться, когда подскочил Олежка и юлой закрутился по кругу.
— Вдаль ему, папка. Так ему, так ему, — веселился мальчуган.
Вот гадёныш шепелявый, шмакодявка паршивая. Молись! Земля круглая — встретимся, — сквозь зубы процедил Митька.
Но Олежка наперёд не загадывал. Парнишка по молодости и неопытности жил в теперешнем отрезке времени и был счастлив настоящим, продолжая вертеться волчком и накручивать отца.
Алёнка, увидев с летней кухни, как бьют брата, подбежала к отцу и стала хватать его за руки:
— Папочка, не трогай его. Не надо. Пожалуйста, — серебряным ручейком зазвучал голосок девочки.
— Уйди, сестра. Видишь, человек за правду страдает, — с гордостью сказал Митька.
А ремень тем временем продолжал прилипать к телу, но обжигал уже меньше; притерпелась спина.
— "А где Серёга? Пусть бы посмотрел, как брательника мутузят… В доме, наверное, где-то скрысился. Боится выйти… А до чего же больно-то. И когда ему надоест? Мне бы уже точно надоело, — думал Митька.
***
День клонился к вечеру. Санька растапливал баню, Андрей помогал бабушке пасынковать помидоры. Вся земля на проходах между кустами томатов была усыпана зелёными отростками.
— Баба, а зачем мы это делаем? — спросил Андрей.
— Лишние они. Пасынки от плодов соки отымают, — ответила бабушка.
— А, на мой взгляд, пустая работа. Отростки листочки дадут, процесс фотосинтеза активней пойдёт, а мы их на корню обрываем.
— Что ещё за фотохсинтез такой? — спросила бабушка, не отрываясь от дела.
— Это когда листья потребляют кислород, а выделяют углекислый газ. В природе так задумано.
— Я сегодня на почте была, — перевела бабушка разговор на другую тему, — с Василисой Прокопьевной, подружкой моей старой столкнулась. На Кирьку, сына сваво, жаловалась. Денег не занял, десять рублей матери пожалел. Это как же так? Отец мой, царство ему небесное, уж до чего строгий был, всю семью в кулаке держал. Бесимся бывало — мать цыкнет, а нам, мальцам, всё ни по чём. Озоруем, озоруем, а отец зайдёт в избу — мы кто куда… и притихнем. Тише воды, ниже травы сидим… Тяжёлое время, внучек, было. Сначала в колхозы загоняли, потом война… Отца с братом старшим на фронт забрали. Ванюшка в сорок первом сгинул. Слабосильный был, добрый. Токмо война не разбирала, всех под одну гребёнку гребла. А отец… отца в белорусских лесах фрицы, бесово племя, в плен чуть не взяли. Он в конной разведке служил. От своих оторвался и на немцев наскочил. Они к нему: "Сдавайся рус". Только он, знать, не захотел в плен-то. Коня в дыбы поднял и бросился от них… Очередью в спину дали, так он пули в себе и унёс. До пятьдесят третьего мучился, всех измотал… Так, о чём это я?.. Так вот по головке он нас не гладил, доброго слова от него не слышали… Кормил, поил, в люди вывел и на том спасибо… Прихотливый был, когда за два года до смерти слёг. А терпели, ухаживали. Отец же.
— Баба, а как вы всё это на себе перенесли? Войну, разруху, голод.
Старушка от помидоров оторвалась, присела на стульчик, сколоченный руками деда и, немного поразмыслив, ответила:
— Моё, Андрюшенька такое мнение, что на всё воля божья. Евангелие предостерегало, чтобы люди братоубийства не затевали, а мы святым законам церкви не прислушивались. Бог нас и покарал.
— Это что же выходит: не любит он русских что ли? За что? — с негодованием воскликнул Андрей.
— За что, за что. За всё хорошее! — неожиданно грозно сказала бабушка. — Глупый ты ещё. Кого Бог любит, того наказывает боле. Кровью грехи репрессиями и Отечественной смывали. Война наших озлобленных друг против друга людей поневоле побратимами сделала, путём неисчислимых жертв. Смерть с литовкой в те годы, не разбирая ни правых, ни виноватых, по человечьим покосам шла. А каждый день смертушку чуя, каждый исправиться норовит. Знает ведь, что ни чинами, ни богатством, ни чем другим можно не доспеть воспользоваться. Так-то, внук.
***
Спасский не верил в случайные события. Сегодня он был попросту благодарен провидению за то, что не растапливал баню. Да, так бывает. Будь он на месте Саньки, разговор с бабушкой мог бы не состояться. Её слова если и не разуверили Андрея в выношенных за несколько лет убеждениях, то, не вызывает сомнений, подточили их. Каждый день он встречался с людьми, которые были озлоблены на существующую власть. В провинции разговоры о смене политического строя в последнее время начинали принимать массовый характер, причём отчаявшимся людям было всё равно, что менять, как менять и на кого менять, — лишь бы убрать опостылевшие лица с экранов телевизоров. Грозная сила созревала в Сибири, которой пока не доставало только одного — харизматического лидера.
Андрей не понимал, куда смотрит Москва. Он ненавидел революцию 17-ого, не принимал бунты и мятежи, которые на скорую руку стряпались в России, рождая волну нечистоплотных приспособленцев, презиравших высокие чистые идеи и людей, следовавшим этим идеям. А взбалмошная юность брала своё, параллельно сознанию гнездились тайные мысли, подавлять которые с каждым разом становилось всё трудней и трудней. Он понимал, что так жить дальше нельзя, что какие бы беды не несла за собой революция, она поддержится уставшими от неустроенности людьми и им тоже. Эти страшные думы, которые он так усердно гнал от себя, и были гражданской позицией, его чёткой позицией. Если бы на улицах городов начали вырастать баррикады, он бы раньше побежал туда. А теперь, после разговора с бабушкой, не побежал бы, а пошёл, потому что не смог бы отдать на растерзание людей; плечом к плечу бы сражался, но не из личных позиций, а из жалости.
— "У стольного града, видно, ум за разум зашёл. Если завтра поднимется волна народного гнева в Сибири, послезавтра восстанет Дальний Восток. И эта окраина империи будет сражаться не за победу мирового пролетариата, а за возможность видеть свет в своих домах. Отключение отопления в Урюпинске может привести к тому, что Кремль останется только на проспектах у приезжих туристов. Москва, некогда объединявшая Русь против захватчиков, превратилась в наши дни в анклав разврата. Выражение: "Москва — не вся Россия" с недавнего времени стало произноситься не с беспечным равнодушием, а с ненавистью, — думал Андрей".
Но вопреки всему он любил столицу. Любил за её великую историю, больше любить было не за что.
— "Баба правильно сказала, что междоусобиц допускать нельзя. Это грех. Только как же тогда бороться с коррупцией в высших эшелонах власти, логово которой — Москва, — хапающая сама и потакающая воровству на периферии… Как?.. Пробиваться наверх? Я-то выдержу, — а мои друзья? Сегодня хорошие ребята, а завтра окружение и обстоятельства сломят их, заставят подчиниться сложившимся наверху правилам игры. Если и не они сами, то их семьи будут подвергаться опасности, ведь зло знает множество методов давления. Как же тогда быть?.. Та-а-ак, а если сосредоточить усилия на конкретном участке? Например, на Кайбалах. И посвятить этому жизнь. Предстоят падения, но будут и взлёты. Здесь легко заметить результаты от вложенных усилий. А другие районы?.. Им что, — погибать? Ничего, там тоже люди найдутся. Это Россия, здесь всегда есть кому, — размышлял Андрей, облокотившись на колышки помидоров.
Щас, Андрон, я тебе все косточки пропарю! Баня — это вещь! Как там у Евдокимова: "Эх, баня, баня, баня — малиновый ты жар!" Я из тебя хандру-то повыбью! Баня — это тебе не хухры-мухры! Все поры откроются! Чё молчишь-то? Чё молчишь?.. Тяжело? Терпи казак — атаманом будешь!
Андрей лежал на полке и кряхтел. Два новых берёзовых веника щеголяли по спине, отрывая кожу от костей.
— Слышь, Саня? Не поддавай больше, мочи терпеть нету, — через силу промолвил Спасский.
Санька зачерпнул в ковшик воды, произвёл обманное движение в сторону брата (как будто хотел его окатить) и в следующую секунду ошпарил отверстие в железном баке. Вода, испаряясь с камней, свистящим паром вырвалась наружу и затуманила баню.