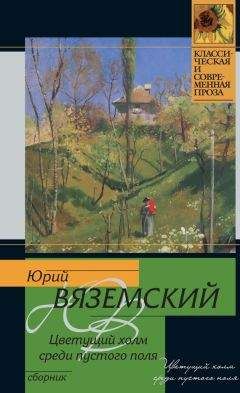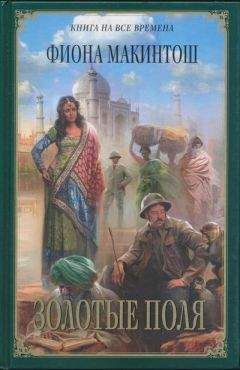Юрий Герт - Ночь предопределений
На остановке было довольно темно, и народ— кто выходит, кто входит, кто ждет свой автобус, троллейбус... Драка была неминуема. Еще никто бы не успел ничего понять, разобраться, я уже не говорю, что там вышло бы, когда разобрались, кто и какую сторону бы принял, и что получилось бы дальше... Но я ее вдруг очень отчетливо себе представил, эту драку. И как мы, вцепясь друг в друга, катаемся в грязи — была осень, шли дожди, все развезло... Он был, наверное, сильнее меня, но в тот миг я знал, что убью его или задушу. Я это совершенно честно вам говорю — я его не боялся, я его ненавидел так, что не мог чувствовать страха, я одно чувствовал — что должен его убить...
Феликс затянулся и продолжал, глядя в днище лодки:
— Но что же я сделал на самом деле?.. Я сбежал. Элементарно, не в каком-то переносном или фигуральным смысле, а самым явным образом. Когда он спрыгнул с подножки и рванулся за нами, девочка потянула меня в толпу и потом побежала — прочь от остановки, в темноту, и я за нею, не выпуская вцепившейся в меня ручонки... Вначале, когда она кинулась от автобуса, было мгновение — я остановился. Он меня или я его — не важно, важно, чтоб лицо в лицо, чтоб не бегство, не позор. Но тут мне представилось: хрипы, грязь, кровь, милицейские свистки, допрос в отделении — в конце-то концов я чувствовал, что не убил бы его, это так говорится... Но все это на глазах у толпы, а главное — у нее, этой девчушки, эта бессмысленная жестокая драка... Так я представил это себе — и пошел, а потом побежал — за нею, с нею вместе...
— И что же после?..
— Ничего. На другой день я обо всем рассказал Наташе, своей жене. Она меня выслушала и назвала трусом. Я пытался ей что-то объяснить, и зря. Чем больше я объяснял, тем больше походило, что я оправдываюсь. Бывают обстоятельства, сказала она, когда нельзя думать, что из этого получится. Когда надо просто драться, чтобы сохранить себя... Свое «я»... Главное, без чего тебя уже как бы и нет... Но ты струсил,— так она сказала.
...Что после? Я несколько вечеров подряд искал этого человека. Садился в автобусы нашего маршрута, подолгу выстаивал на остановках, ждал, что увижу его наконец... Я его не увидел, не нашел. Зато мне казалось, что все в автобусе, особенно те, кто сходит у нас в микрорайоне, все видели и знают о моем позоре. Я чувствовал себя подонком... Только дело тут не в этом приключении. Не только в нем. Началось все раньше, гораздо раньше...
Айгуль сидела, вся как-то сникнув, съежившись, и молча водила пальцем по ржавой уключине. Расстояние между ними оставалось прежним, но Феликсу казалось, оно выросло, отодвинуло их друг от друга.
Ага, подумал он с сожалением, но и со злорадством тоже, и больше все-таки со злорадством, вот вам и ваш пан Зигмунт... Пан Зигмунт, который, сверкая пятками, сбегает из автобуса... Что поделаешь, айналайн, это правда...
— Вы спросили у меня — там, на скале,— отчего мне не пишется. Как вам сказать... Иногда мне кажется, что все деле в том, что нужно... совершенно необходимо... чтобы в тебе самом было хоть что-нибудь от человека, о котором ты пишешь. Хотя бы чуть-чуть, самая малость. Понимаете?.. И если этого нет, тут не выручит никакое воображение. Все равно будет фальшь и фальшь...
Впрочем, нет худа без добра. После этой истории я как бы заново вгляделся в себя и понял, что на самом деле я вовсе не то, не такой, каким себе казался, да, может быть, каким кажусь со стороны. А главное — я понял вдруг, что до сих пор так же, со стороны смотрел на тех, о ком собирался писать. И тут не важно, что здесь я увидел труса, увильнувшего от уличной драки, а там видел выкованных из металла рыцарей, героев, которые не дрогнув поднимаются на эшафот и при этом бросают потомкам какую-нибудь крылатую фразу... Важно, что это был и в том, и в другом случае взгляд со стороны. Для меня главным сделалось — понять, что они чувствовали прежде, чем решиться... И потом, когда все-таки решались...
Он говорил, отчасти додумывая вслух ту мысль, которая мучила его последние месяцы, а отчасти — чтобы кое-как смягчить, загладить впечатление от своего рассказа. Она не слушала, не поднимала на него глаз. Она подняла их только раз, когда, с неожиданной пристальностью, сузив веки, взглянула на него и перебила:
— Зачем вы все придумали?
— Придумал?
— Да, придумали! Сочинили!
Она вскочила со скамейки, распрямилась. Ее черные глаза вспыхнули, как вспыхивают осколки стекла под луной. Осколки стекла или обрезки жести.
Вот и все... Сердце у него застучало, заколотилось. И конец лунной дороге... Но ты ведь сам этого хотел.
— Да,— повторила она,— вы все это сочинили, про автобус!.. Зачем?..
Она сердито стряхнула его руку, когда он попытался взять ее за локоть.
— Я знаю — зачем! Знаю!..
Взгляд у нее был пронзителен, всевидящ. Феликс внутренне поежился под этим взглядом, чувствуя, что он приникает ему в самое нутро. Она все понимает,— подумалось ему с восхищением л досадой.— Понимает... И ошибается только в одном...
Ему вдруг стало холодно, пусто и скучно. Как если бы он снова бежал, улепетывал из автобуса, и это было уже привычным, и не обескураживало, не удивляло...
Он почти с облегчением согласился, когда она сказала, что уже поздно, пора домой. И вылезла из лодки, прихватив босоножки. Пока она их застегивала, присев на корточки, он тоже перешагнул через борт, под ногами слабо захрустели ракушки.
Он еще стоял возле лодки, когда она зацокала быстрыми каблучками по дорожке, ведущей к городку, который темной полосой лежал под ярко освещенной скалой. Он стоял, глядя на плавно изогнутый берег, тихо мерцающий, сливающийся вдалеке с морем, смотрел на лохматые, свившиеся черными жгутами водоросли, от которых пахло гнилью и морским илом, смотрел на лодку, вытянутую на песок и пристегнутую к берегу крепкой цепью, и думал, что все это не повторится, все это надо запомнить, унести с собой.
Догоняя Айгуль, он еще раз оглянулся. Луна стояла теперь ниже, чем когда они пришли сюда, и от этого дорожка на воде казалась еще шире, по мере приближения к горизонту, где она разливалась от края до края — струистым, тяжелым золотом. А луна похожа на пуговицу или бляху на ремне, мелькнуло у него вдруг, так же блестит и сверкает. Точь-в-точь как перед увольнением в город, или полковым смотром. Чем мы их драили?.. Да — асидолом... Вот именно, асидолом...
От этого слова, неожиданно подсказанного памятью, и от того, что потянулось за мим, он ощутил себя собранным, бодрым.
Когда они подошли к городку, здесь все спало. Дома отбрасывали резкие тени. У длинного, в один этаж, здания почты Айгуль остановилась.
— Дальше я сама,— сказала она сухо. И ладошка у нее была сухой, плоской—жестяной.
— Я провожу вас...
— Нет.
Ну-ну, подумал он, ну-ну... Он подождал, пока она скроется за поворотом. Но на самом повороте она остановилась, обернулась. Как будто ожидая, что он подойдет, уверенная, что подойдет... Он подошел.
- Я сказала вам утром, что у меня есть кое-что для вас...— Голос у нее немного оттаял, хотя она по-прежнему не смотрела на него.— Это воспоминания Яна Станевича, мне прислали из Кракова. Я перевела их... для вас.— Последнее слово далось ей с явным усилием.— Завтра я принесу в музей.
— Спасибо,— сказал он.— Я все-таки провожу вас. Айгуль...
— Нет,— сказала она.
И, уже повернувшись, небрежно уронила через плечо:
— Но если вам хочется...
* * *
Когда он вернулся к себе, дверь в номер оказалась не запертой, хотя он помнил, как, уходя, щелкнул в скважные ключом. Феликс повернул выключатель, ощупью отыскав его на стене. Лампочка под матовым плафоном вспыхнула, и он увидел, что в номере он не один. Бумаги, те самые, которые он расположил на пустовавшей с утра кровати, были собраны в стопку и перемещены на стол. На кровати же посапывал, во сне вытянув по диагонали загорелое тело в цветастых трусиках, долгоногий белобрысый парень. Со спинки стула свешивались видавшие виды джинсы, из-под кровати торчали носки синих, в белую полоску, кроссовок...
О, Рымкеш! — вздохнул Феликс.— О, Рымкеш!..
11
ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАН ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ САМОВИДЦЕМ ИНОКОМ МАРКОМ, ТОПОЗЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ.
Маршрут, сиречь путешественник. От Москвы на Казань, от Казани до Екатеринбурга и на Тюмень, на Каменогорск, на Выбернум деревню, на Избенск, вверх по реке Катуни на Красноярск, на деревню Устьюбу, во оной спросить странноприимца Петра Кириллова. Около их пещер множество тайных, и мало подале от них снеговия горы распространяются на триста верст, и снег никогда на о них горах не тает. За оными горами деревня Ульменка, и в ней часовня; инок, схимник Иосиф. От них есть проход Китайским государством, 44 дня ходу, через Губань, потом в Опоньское государство. Там жители имеют пребывание в пределах окияна-моря, называемое Беловодие. Там жители на островах семидесяти, некоторые из них и на 500 верстах расстоянием, а малых островов исчислить невозможно... Со истиною заверяю, понеже я сам там был, со двемя иноками, грешный и недостойный старец Марко.