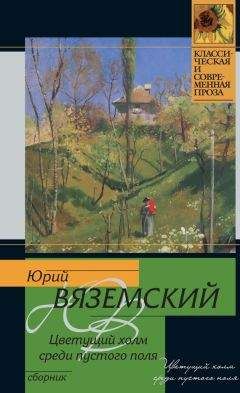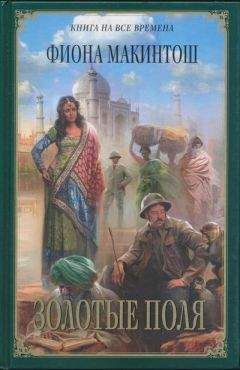Юрий Герт - Ночь предопределений
Он почувствовал, как шелохнулась ее рука в его ладони, пытаясь высвободиться, но слабо, слишком слабо, он не выпустил копчиков ее пальцев. Зачем я это делаю?..— мелькнуло у него. Но им владело холодное, острое любопытство, и, казалось, надежда, проходя мимо, слегка коснулась, задела его своим подолом, как женщина, незнакомая, недоступная, не глядя, не повернув головы, нечаянно заденет — платьем, коленом — сидящего в узком проходе, пробираясь между рядами на свое место в партере...
— Но в этот момент, в этот самый миг, когда они так вот сидят, на такой вот вытянутой на берег лодке, где-то там, за морем, и за еще одним морем, и за еще одним... То есть в страшной дали — гремят выстрелы, залпы... Станет ли он вслушиваться, ловить отзвуки этих залпов, ловить запах гари и пороха, едва доносимый ветром?.. Когда ждет единственного — чтобы вы ответили ему, сказали коротенькое «да» — и в этом «да» — вся его жизнь?..
Тем более, что ведь и гари, и залпов до него не доносит. Все это скорее всего лишь его фантазия, остатки фантазии... А если вдруг и прозвучит выстрел, то кто знает, что это: охотник метит в утку, или добивают последней пулей Конарского, или в самом деле — это первый выстрел, а за ним грянет битва?.. Но тут ведь масса соблазнов. Сказать себе, что я ничего не слышал. Или — что с меня достаточно, Или — что все бесполезно, ведь известно уже, чем это кончается, на каком метре обрывается лунная дорога... Мало ли что можно себе сказать! И все будет правда, или почти правда.,. И никто не укорит его, не проклянет, хотя и славой — на веки-вечные — не отметит... Но в конце-то концов зачем ему она, эта слава, приходящая к мертвым? Он жив, и в руках его — жизнь, и она вот-вот вымолвит свое «да»... Вот чего я не понимаю, не могу постичь — его выбор... А вы? Вы — понимаете?..
— Не знаю,— сказала она.— Тут надо подумать... На самом-то деле ведь так и бывает: он уходит. Туда, где, как вы говорите, залпы... Она говорит ему «да», но он уходит. Может быть, она потому-то и говорит ему «да», что знает: он уйдет... Разве не так? Иначе они бы не сидели ночью, на берегу, в лодке, как мы с вами... Правда?
Она засмеялась — приглушенным, задержанным где-то в груди смехом, тряхнула головой и коротко, дразняще взглянула ему в лицо поверх рассыпавшейся по щеке пряди волос.
Она права, подумал он. В чем-то... В чем-то она права. И сейчас все это кончится. Сейчас мы встанем, разойдемся... И когда-нибудь я опишу эту ночь, эту сцену, и прибавлю то, чего не было, но могло быть... Для художественной завершенности. Но она в чем-то и в самом деле права...
— Вот почему он уходит. Он ведь и сам чувствует, что если не уйдет, останется, она ему «да» не скажет... Да еще пани Далевская!.. Что вы! Да она бы его вмиг разлюбила!
У нее это так горячо, так убежденно вырвалось... Он даже рассмеялся от удовольствия, наблюдая за вей, обрадованной собственном догадкой.
— Разве не так?.. Конечно, разлюбила б!.. Да вы на себя посмотрите, загляните в себя — вы бы остались, не ушли?..— Она отодвинулась от него и победно посмотрела ему в глаза.— Вы ведь сами...— Он старался не слушать, не слышать ее торжествующей, пылкой тирады.
Пока она говорила, он чувствовал себя так, словно, сидя с ней рядом, занимает чужое место. Что-то в нем увяло, померкло. Он ощутил, что его рука, еще лежавшая у нее на плече, затекла, одеревенела, и пошевелил пальцами, как чужими, разминая их и как бы доказывая этим самому себе, что это его рука, его пальцы. И что он сам, не кто-то другой,, сидит возле этой девушки и слушает, как она говорит — ему, о нем.
Все она знала — в том числе и о его неприятностях с последней книгой... Все, что можно выцедить из тощих газетных строк. О том, что книга не попала в издательский план, что три года его жизни вычеркнуты, выброшены в канцелярскую корзину — этого, разумеется, она не знала, и еще многого, что тому предшествовало. Отсюда, из своего разморенного зноем городка, из музейчика, где каждый экскурсант — переполох и событие,— отсюда он представлялся ей не иначе, как сказочным витязем, исполненным доблести и отваги...
Все куда проще, подумал он. Проще и пошловатей... Особенно с ее-то мерками!.. С мерками, которые отчасти он же ей и преподал...
— Знаете, Айгуль, не в этом дело...— Он убрал руку, потянулся в карман за сигаретой. Может быть, потому и убрал руку, что впервые за то время, что они сидели на берегу, вспомнил о сигарете, а может быть, потому и убрал, что нашел предлог.— Не в этом, не в этом дело, Айгуль,— Он чиркнул спичкой, и от сигаретного дыма, когда он вдохнул его, повеяло привычным запахом рукописей, прокуренной пишущей машинки...— Если бы только в этом... Я вас куда-то завел, зашли мы не туда, по лунной-то дороге. Битвы, пороховая гарь...— Он поморщился, не решаясь продолжать. И решился.
— Я к тому, о чем вы сейчас говорили... Тут сразу и ответ на вопрос, который вы задали утром. Так вот. Все шло у меня хорошо, как полагается,— материалы, архивы, библиотека... Все собиралось, начинало уже укладываться в голове, даже какие-то интересные варианты возникали. Хотя где-то в душе было чувство, что тут какая-то фальшь, какая-то маленькая фальшивинка, вроде занозы, такой, знаете, крохотной, что и выковыривать ее не хочется — а, пройдет, зарастет... И вот однажды — только вы не смотрите на это, как на простой пустячок, вы постарайтесь себе в полной мере представить — всю эту мерзость, эту гадость... Однажды в автобусе, вечернем, переполненном... К нам в микрорайоны всегда в это время идут такие автобусы, что чуть не лопаются — такая в них давка... Так вот. На одиночном, сиденье, среди этой толчеи и давки, сидит девчушка, лет двенадцати, с тяжеленным портфелем на коленях, и личико у нее бледненькое, заморенное, синеватое даже — от усталости, от второй смены, от каких-нибудь контрольных и духоты в классе... А рядом — какой-то верзила в дубленке, и рожа у него багровая, и коньяком разит — на весь автобус. Тип этот упирается рукой в оконное стекло, а сам давит, напирает животом на девчушку, совсем ее притиснул к борту, она бы рада встать, выкарабкаться из уголка своего, да где там, ей и пошевелиться невозможно... Я протискиваюсь поближе, хватаюсь за поручень над спинкой переднего сиденья, и моя рука разделяет барьером верзилу и девчушку, так что теперь он давит уже не на нее, а на мою руку. Он, может, раньше и не замечал, что давит на девочку — такие толкнут на улице и не заметят, с ног собьют — не оглянутся... Но рука... Руку мою он заметил и, наверное, почувствовал — ну, не оскорбленье, а просто, что кто-то осмелился встать ему поперек. И навалился на меня — теперь уже намеренно, в полной уверенности, что мне не выдержать. И так давил, что вот-вот или сломал бы руку, или я бы сам должен был уступить, оторвать пальцы от поручня. Но я держался, злость помогала, как всегда в таких случаях... Теперь представьте — этот полный автобус усталых, сосредоточенных на чем-то своем, каждый — на чем-то своем, людей, и сумки, сетки с кефиром, кулечки с сосисками и бог знает чем, и среди всего этого — мы, лицом к лицу, за минуту до того — совершенно чужие, незнакомые, а сейчас — ненавидящие друг друга смертельной ненавистью, и только девочка — перепуганная, обмершая со страху, смотрит на нас и понимает, в чем дело. И так мы едем, и при каждом толчке он напирает все сильнее, потому что за ним — вся эта масса, тоже раскачивающаяся, напирающая по инерции, и я чувствую — рука у меня действительно вот-вот хрустнет, и он это видит тоже, и молчит, и улыбается мне — так победно, так широко, что краешки его красных, блестящих от слюны десен проступают над белыми, крепкими зубами. И я тоже молчу и улыбаюсь — изо всех сил... Но потом я все же что-то такое ему сказал, что-то соответственное... Он ответил. И схватил меня за лацкан пальто... Наверное, с виду мы оба были похожи на пьяных, один другого стоил. Девчушка вскрикнула, вскочила... Глаза у нее были совершенно круглые, в них и страх, и ярость, и отчаянье — все перемешалось... Она как-то ввинтилась, втерлась между нами, схватила меня за руку и кинулась к выходу, напролом, врезаясь в чьи-то спины и локти... На остановке этот тип, в дубленке, выскочил вслед за нами... И вот здесь-то и произошло то самое, о чем я хочу вам рассказать.
На остановке было довольно темно, и народ— кто выходит, кто входит, кто ждет свой автобус, троллейбус... Драка была неминуема. Еще никто бы не успел ничего понять, разобраться, я уже не говорю, что там вышло бы, когда разобрались, кто и какую сторону бы принял, и что получилось бы дальше... Но я ее вдруг очень отчетливо себе представил, эту драку. И как мы, вцепясь друг в друга, катаемся в грязи — была осень, шли дожди, все развезло... Он был, наверное, сильнее меня, но в тот миг я знал, что убью его или задушу. Я это совершенно честно вам говорю — я его не боялся, я его ненавидел так, что не мог чувствовать страха, я одно чувствовал — что должен его убить...
Феликс затянулся и продолжал, глядя в днище лодки:
— Но что же я сделал на самом деле?.. Я сбежал. Элементарно, не в каком-то переносном или фигуральным смысле, а самым явным образом. Когда он спрыгнул с подножки и рванулся за нами, девочка потянула меня в толпу и потом побежала — прочь от остановки, в темноту, и я за нею, не выпуская вцепившейся в меня ручонки... Вначале, когда она кинулась от автобуса, было мгновение — я остановился. Он меня или я его — не важно, важно, чтоб лицо в лицо, чтоб не бегство, не позор. Но тут мне представилось: хрипы, грязь, кровь, милицейские свистки, допрос в отделении — в конце-то концов я чувствовал, что не убил бы его, это так говорится... Но все это на глазах у толпы, а главное — у нее, этой девчушки, эта бессмысленная жестокая драка... Так я представил это себе — и пошел, а потом побежал — за нею, с нею вместе...