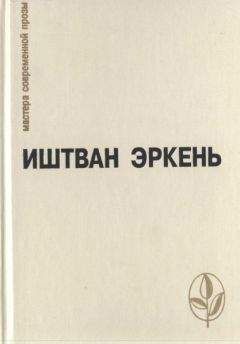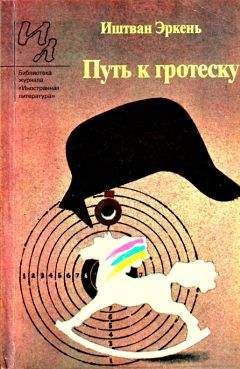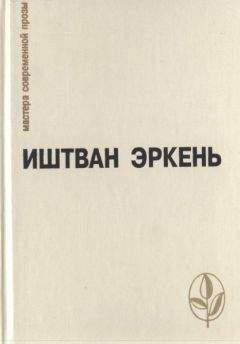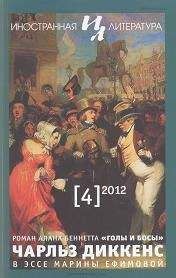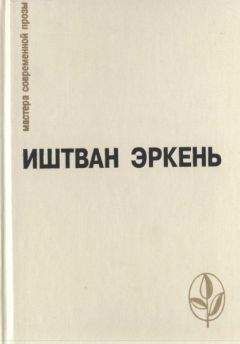Иштван Эркень - Народ лагерей
Стало быть, извне никаких решающих указаний не последовало. Еврейский вопрос следовало улаживать между собой. Он стал сугубо внутренним делом. Конечно, трудно говорить здесь о каком бы то ни было продвижении. Настроение в общем неодинаковое. В иных лагерях совсем нет евреев, в других составляло большинство роты о четырех национальных принадлежностях. Есть такие лагеря, где кадилом размахивают отъявленные нилашисты, а в иных местах еврейский вопрос закрыт, сошел на нет. Не существует формулы, приложимой к любому случаю.
Но затрагивает этот вопрос многих. В массе своей люди осознали, что пороки, которые до сих пор были им ненавистны как «сугубо еврейские», присущи не только евреям. Треклятый торгашеский дух процветал даже при отсутствии евреев, и неприспособленные к жизни простаки оказывались ободранными как липка. В лагере в Гёдёллё евреи были наперечет, однако местные князьки не ударили в грязь лицом. Одно время цена сигареты «Симфония» составляла восемьдесят пенгё; кому не хватало на целую сигарету, мог уплатить частично, за «разок курнуть»… Не рассказывай об этом многие, никогда не поверил бы.
Да и в тот период, когда верховодили пробивные, не только евреи работали локтями. Не одна звездная карьера авантюриста могла убедить в этом даже наиболее предубежденных. Большинство мошенников были не опасны. Соврет кто-нибудь, что он портной, так после первой же испорченной вещи его и выставят из мастерской. Не силен был в своем ремесле, занялся воровством или спекуляцией, продал новую вещь разок, другой, третий… На десятый попался. А если и дело свое знал, и честный был — отчего, спрашивается, не остался верным ремеслу портного?
* * *Продолжим тему мошенничества. Многие начинали с того, что объявляли себя коммунистами. Те, кто рассчитывал таким способом втереться в доверие, проигрывал, поскольку подобные заявления проверялись. Но попадались аферисты, действовавшие с необычайной ловкостью и умело пользовавшиеся знанием людской психологии. Некоторым удавалось добиться немалых успехов. Известна карьера Миклоша Ковача. В Михайловском лагере он вел политико-просветительскую работу и долгие месяцы был властителем тысячи трехсот венгерских пленников. Даже начальство он сумел обвести вокруг пальца. С работой своей справлялся плохо: офицеров однажды обозвал «фашистами», в другой раз «свиньями». Те офицеры, кто в Михайловском лагере брал уроки демократии у Миклоша Ковача, наверняка утратили вкус к ней. Между тем в Михайловском лагере содержалось семьсот офицеров, так что ставка была серьезной.
Разумеется, и Ковач объявил себя коммунистом, на родине, мол, занимался подпольной работой среди молодых пролетариев. В подтверждение своих слов приводил имена. Сочинитель он был первоклассный, рассказов о его жизни хватило бы на множество романов. Мать Ковача была русской, дочерью полковника. Отец в Первую мировую войну очутился в русском плену и, возвращаясь на родину, подбил полковничью дочь бежать с ним… Ну чем не готовый роман? Продолжение романа не менее увлекательно. В Венгрии вспомнилось, что у папаши Ковача дома уже есть жена, только он забыл о ней упомянуть. Русская женщина, которая тем временем произвела на свет нашего героя, развелась с обманщиком и снова вышла замуж. Так начались долгие злоключения Ковача.
Попался мошенник, как водится, на мелочи. Как-то раз он обмолвился, что в 1941-м венгерская полиция схватила его как бездомного-безродного и сплавила за границу чехам, в Комаром. А чешская полиция упрятала его в тюрьму… Кто-то обратил внимание на некоторую неувязку. В 41-м, говорите? Да, в 41-м! Но ведь Комаром тогда относился к Венгрии… Ковач пустился в объяснения, но было поздно: никто уже не верил ни единому его слову. Выяснилось, что и коммунистом он не был. Вылезла вся его подноготная, к тому же оказалось, что и с работой своей он не справляется… Говорят, чтобы стронулась лавина, иной раз достаточно свистнуть.
* * *Все эти факты способствовали уяснению картины. Жгучий антисемитизм постепенно остывал. В лагерях появились пленные, которые были очевидцами депортации, и их свидетельства вызвали всеобщее возмущение и чувство брезгливости. Страсти несколько поутихли. Но не будем заблуждаться: огонь не погас окончательно. Если выразить общее настроение с помощью взятых там и сям проб, то следует признать, что антисемитизм не прекратился. Он всего лишь сменил одежку, переоблачившись в старомодное платье времен Франца Иосифа, какое на рубеже веков носили наши отцы.
Это антисемитизм равнодушный, даже благодушный. В один из опросных листов вкрался такой вопрос: «На родине три четверти евреев изъявили желание уехать из Венгрии. Как вы к этому относитесь?» Вопрос не самый удачный, поскольку на него заведомо не мог быть получен ясный ответ. Двадцать опрошенных высказались однозначно: «Ну и пусть уезжают!» Пятеро, правда, добавили, жаль, мол, но удерживать незачем; четверо присовокупили, что без них, дескать, лучше будет. «Скатертью дорожка», — сказали эти четверо, и что интересно, двое из них были евреи. Два еврея из всех опрошенных.
* * *Пожалуй, не такая уж большая беда, что картину общественного развития лагерей мы попытались нарисовать с точки зрения еврейского вопроса. Но картина эта неполная: отсутствуют оттенки и краски, поверхностные явления. Прежде всего то общественное явление, которое характеризует плен не меньше, чем тоска по родине: торгашество.
Венгры, которые — абстрагируясь от лошадиных барышников, цыган и армян — считались породой нежизнестойкой, в плену по части торговой сметки переплюнули всех итальянцев, швабов и евреев. Однажды, когда старина Лайош Чехаш предлагал на продажу курильщикам свежий (и непрочитанный!) номер газеты «Игаз Со», я даже спросил у него: «И не совестно вам, дядюшка Лайош?..» Он пожал плечами и улыбнулся: «Ум для того и даден мадьяру, чтобы им пользоваться!»
Умом и вправду мадьяры были не обижены, во всяком случае применительно к коммерции. «У вас с чего начиналось?» — поинтересовался я у одного музыканта, которого перевели к нам из киевского лагеря. По его прикидке, у них торговый оборот развернулся примерно весной 1944 года. Первую сделку предложил некий горный пастух румын, который на утренней перекличке поинтересовался у стоявшего рядом венгерского крестьянина, доводилось ли тому пробовать шпинат. Как же, как же, доводилось… А сейчас нет ли желания отведать? — Желание-то есть, да вот шпината нет! Можно ведь купить… — надоумил его румын. Купить? Это что-то новенькое! Но за сколько? И чем расплачиваться?
Хлебом, естественно. За половину дневной пайки — полный котелок шпината… Сырой шпинат… — засомневался мадьяр. Какое там сырой! В готовом виде, с подливкой и с маслом. Сплошные витамины… Слово «витамины» подействовало, и обмен состоялся. Простак мадьяр до вечера поедал зеленую тюрю и диву давался, что бы это могло быть такое. Вареное — точно, а на шпинат совсем не похоже. К вечеру он сообразил, что его накормили вареной травой. До конфликта дело не дошло, но на другой день уже двое предлагали на продажу отварной шпинат в холодном виде, с подливкой и маслом.
* * *Лагерь пересекала широкая дорога. По вечерам, после работы, когда бригады возвращались на зону, здесь кишел народ и шла бойкая торговля. Покупатели и продавцы объяснялись на четырех языках, и с течением времени ассортимент расширялся. Можно было купить отруби, яблоки, черную патоку, хлеб и те поскребки, что извлекались из пекарских форм. «Помидор, помидор!» — выкликал торговец румын; резчик трубок хриплым голосом предлагал свой товар: «Кто желает трубку с чертовой головой, складной мундштук, стеклянное сердечко, румынское и венгерское?» На стеклянном сердечке красовался венгерский или же румынский флаг, значок можно было пришпилить к шапке, чтобы тебя не сочли за немца. За этим делом тут строго следили.
Крестьяне с Большой Венгерской низменности, которые у себя на родине и в сельскую лавку-то входили, сняв шляпу, здесь своей изобретательностью способны были посрамить даже столичных старьевщиков. Очень большим спросом пользовались штаны. Присмотрев подходящую жертву, соблазнитель совал ей под нос жареный пирожок. «Снимай с себя свою рванину, приятель. Взамен получишь добротные немецкие штаны и пять пирожков…»
Каких только диковинных вещей не пускали в продажу, в особенности со временем, когда пленным за работу стали платить: фотопленку и граммофонные пластинки, напильник, стамеску, платяные вешалки. Однажды кто-то выставил на продажу канарейку, другой предлагал купить электромоторчик мощностью в половину лошадиной силы. Стоит его только включить в розетку, и он мигом начнет работать, клялся продавец. «На какое напряжение?» — «Да на любое!» — «А что я с ним буду делать?» — «Перепродашь!» — гласил ответ. Оно и понятно: ведь ни граммофонным пластинкам, ни электромотору, ни канарейке нельзя было найти применения.