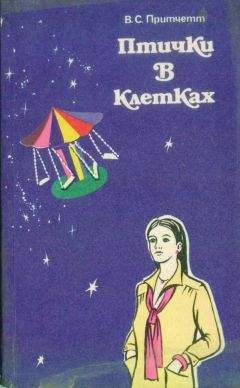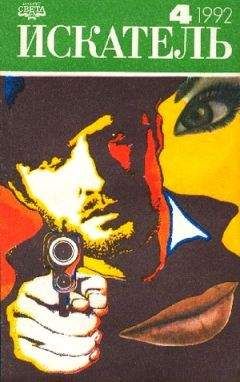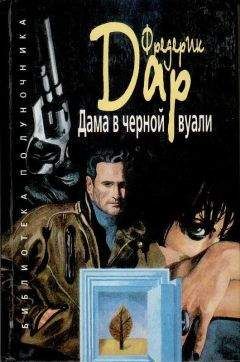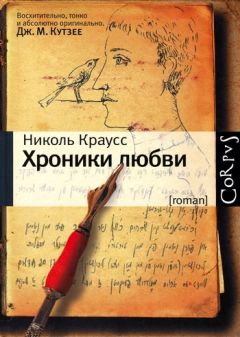Николь Краусс - Большой дом
Да, Лотте оставалась для меня загадкой, но я обретал утешение в островках ее души. Я обнаружил их сам, и они служили мне ориентирами, благодаря им я всегда мог найти верный путь даже в наихудших обстоятельствах. В самой ее сердцевине зияла утрата. Лотте была вынуждена покинуть свой дом в Нюрнберге в возрасте семнадцати лет. Целый год она вместе с родителями провела в пересыльном лагере в польском городе Забже, в условиях — как я представляю — адских, но она об этом никогда не рассказывала, как, кстати, о детстве и о своих родителях. Летом 1939 года с помощью молодого еврейского врача, который также находился в лагере, она получила визу для сопровождения группы из восьмидесяти шести детей, которых отправляли морем в Англию. Число восемьдесят шесть всегда меня поражало, во-первых, потому что Лотте излагала эту историю скупо, там было совсем мало деталей, а во-вторых, потому что восемьдесят шесть детей — это очень много. Как она успевала обо всех позаботиться? Как она вообще могла смотреть им в глаза, понимая, что весь известный ей и им мир потерян навсегда? Отплывали из Гдыни, порта на Балтийском море. Предполагалось, что путешествие займет три дня, но вышло пять, потому что как раз во время этого плавания Сталин подписал договор с Гитлером, и кораблю пришлось изменить маршрут, чтобы не попасть в территориальные воды Германии. В Гарвич они прибыли за три дня до начала войны. Детей разобрали в приемные семьи по всей стране. Лотте дождалась, пока последний ребенок сел в поезд. И когда на ее попечении никого больше не осталось, нырнула в свою собственную жизнь.
Нет, я не мог даже представить, какую ношу носила она в самых глубинах души, но постепенно обрел какие-то точки опоры для общения и понимания. Порой она кричала во сне, и я знал: ей снится отец. Когда мои слова или поступки, а чаще — отсутствие своевременных слов и поступков, — причиняли ей боль, она внезапно становилась более дружелюбной, только дружелюбие это было искусственное, отлакированное, дружелюбие попутчиков, один из которых прихватил с собой еду в расчете на долгую дорогу, а другой забыл. Зато через несколько дней она взрывалась из-за какой-нибудь ерунды: то я не вернул на полку железную банку с чаем, то бросил на пол носки. Сила и масштабы ее гнева впечатляли, и единственным возможным выходом было затаиться и хранить молчание, пока не спадет основная волна и Лотте не начнет отступать, прятаться в раковину. В этот момент открывалась щель. Мигом раньше жест перемирия и примирения вызвал бы еще один приступ ярости. Мигом позже она бы уже скрылась под панцирем и закрыла дверь в это странное помещение в нашем доме, где она могла провести много дней и даже недель, не сказав мне ни единого слова. Мне потребовалось много лет, чтобы научиться безошибочно улавливать этот момент, его приближение, и просовывать ногу в щель, спасая нас обоих от наказания безмолвием.
Она со своей печалью боролась, пыталась ее скрыть, разделить на все меньшие и меньшие дольки и рассеять в местах, где, как ей думалось, их никто не найдет. Но я находил, со временем — довольно часто, потому что знал, где смотреть, и пытался собрать дольки в целое. Лотте считала, что не может мне открыться, и мне было от этого больно, но я знал, что ей будет еще больнее, пойми она, что я пробрался в тайники ее жизни, которые для меня вовсе не предназначались. Мне кажется, в глубине души она была противницей открытости. Мечтала о славе, но одновременно не хотела, чтобы ее знали. Это оскорбляло ее чувство свободы. Что до меня… Непростое это дело — любить свою половинку всякой, даже раздражительной, даже трудной. Если, конечно, ты не готов слепо боготворить любимую. А я по натуре — не боготворитель. В основе работы любого ученого лежит поиск алгоритмов. Я тоже искал… Думаете, я выстраивал отношения с женой без эмоций, по науке? В таком случае вы совершенно не понимаете, сколь сильные эмоции обуревают истинных ученых. Чем больше я, ученый, постигаю в этой жизни, тем острее чувствую свой голод и свою слепоту, и в то же время ощущаю, что скоро, совсем скоро голоду и слепоте придет конец. Временами мне кажется, что вот — я уже уцепился за край. Край чего? Не рискну произнести, чтобы не показаться смешным. Но пальцы тут же соскальзывают, и я лечу в яму, еще глубже, чем прежде. И там, в темноте, я нахожу слова, чтобы снова поблагодарить за все, что хранит меня от совершенного знания, от самоуверенности.
К тебе гость, сказал я Лотте, но не обернулся. Я не сводил глаз с Даниэля, поэтому пропустил миг, когда она увидела его впервые. Так до сих пор и гадаю, что же отразилось тогда на ее лице. Шагнув ей навстречу, Даниэль замялся, утратил дар речи. И я увидел в его глазах то, чего раньше там не было. Потом он все-таки представился — как я и ожидал — одним из ее преданных читателей. Лотте предложила ему войти, то есть пройти из прихожей дальше, в дом. Он позволил мне забрать и повесить его куртку, но портфель из рук не выпускал, там наверняка лежала рукопись, которую он хотел показать Лотте. Куртка отвратительно пахла одеколоном, хотя, насколько я мог судить, сам Даниэль, расставшись с курткой, никаких запахов не источал. Лотте повела его в кухню, и по дороге он озирался, разглядывал все подряд: наши картины на стенах, ждущие отправки конверты на бюро… Потом его взгляд упал на его собственное отражение в зеркале, и мне показалось, что он улыбнулся. Едва заметно. Лотте жестом пригласила его к кухонному столу, и он сел, бережно зажав портфель между ног, точно внутри сидел живой зверек. Юноша наблюдал, как Лотте наливает воду в наш видавший виды чайник, а я наблюдал за юношей. Пожалуй, на такой прием он не рассчитывал. Наверно, просто надеялся получить автограф в книжке, а оказался в доме великого писателя! Будет сейчас пить чай из ее чашки! Помню, я подумал: возможно, именно сейчас Лотте и необходим такой визит — как стимул. Она редко говорила о работе в процессе работы, процесс этот всегда проходил слишком мучительно, но по ее настроению я всегда мог определить, как идут дела. Уже несколько недель она казалась вялой и подавленной. Я вежливо извинился и направился к себе — вроде как к лекциям готовиться надо. Оглянувшись через плечо, я вдруг затосковал по нашему так и не зачатому ребенку. Он был бы сейчас как раз таким, как Даниэль, приходил бы с мороза, садился и рассказывал нам кучу новостей.
Я как-то не думал об этом раньше, но теперь сообразил: Даниэль позвонил к нам в дверь в конце ноября 1970 года, в начале зимы, а она умерла двадцать семь лет спустя тоже в начале зимы. Не знаю, искать ли в этом смысл или символ, но люди придают значение таким совпадениям, потому что это предполагает заданность там, где ее на самом деле нет. Тот вечер, когда она потеряла сознание в последний раз, мне сейчас кажется более далеким, чем июньский день 1949 года, когда я увидел ее впервые. Праздновали помолвку Макса Кляйна, моего близкого друга еще со студенческих времен. Праздновали в саду, на открытом воздухе, и как же великолепно, как благородно сверкала хрустальная чаша с пуншем и вазы со свежесрезанными ирисами! Однако, войдя в сад, я тут же уловил какую-то странную ноту, она диссонировала с общей атмосферой и настроением. Источник обнаружился быстро. Маленькая, похожая на воробушка брюнетка с челкой до самых глаз стояла почти у дверей сада. Она не соответствовала ничему, буквально ничему вокруг. Во-первых, было лето, а на ней — лиловое бархатное платье, закрытое под самую шею. Прическа тоже выделялась — ни на что не похожая, разве на опахало или мухобойку, только чуть подправленная, чтобы волосы не лезли в глаза. На руке — массивное серебряное кольцо, по виду слишком тяжелое для тонких пальцев (много позже, когда она сняла кольцо и положила его на тумбочку у моей кровати, я заметил, что оно оставляет на белой коже зеленый ободок). Но самым необычным мне показалось тогда ее лицо, точнее, выражение лица. Сразу вспомнился Элиот, из «Песни любви Альфреда Пруфрока»: Настанет время лицо готовить, чтоб смело встретить другие лица. Песня вспомнилась, потому что Лотте, единственная на этом сборище, не успела подготовить лицо или не подумала, что его вообще надо готовить. Нет, на ее лице не было свидетельств преступления или вины. Просто оно было спокойным, ее не заботило, как она выглядит. Женщина разглядывала мир безо всякой задней мысли. То, что я поначалу принял за исходящий от нее диссонанс, теперь показалось мне самой верной нотой, а вот окружающие на ее фоне диссонировали. Я спросил у Макса, кто она такая. Оказалось — дальняя-предальняя родственница его невесты. Весь вечер она стояла на одном месте с пустым бокалом в руках. В какой-то момент я подошел и предложил его наполнить.
Она жила тогда в съемной комнате недалеко от Рассел-сквер. Другую сторону улицы во время войны разбомбили, и из окна открывался вид на груды кирпичных и деревянных обломков, куда дети прибегали играть — игра называлась «Царь горы», — и голоса их допоздна разносились в темноте. Там и сям торчали остовы домов, в пустых глазницах окон сквозило небо. От одного дома осталась только лестница с резными перилами, в другом можно было рассмотреть обои в цветочек, и цветочки эти постепенно стирались солнцем и дождем. Вывернутое наизнанку нутро чужой жизни — картина грустная, но странно волнующая. Я много раз видел, как Лотте подолгу глядела на руины с торчащими в небо одинокими дымоходами. Впервые попав в ее комнату, я поразился скудости обстановки. К тому времени она прожила в Англии почти десять лет, но мебель, не считая стола, собрала самую непритязательную. Позже я понял, что стены и потолок ее собственной комнаты для нее немногим реальнее, чем несуществующие стены разрушенного дома напротив.