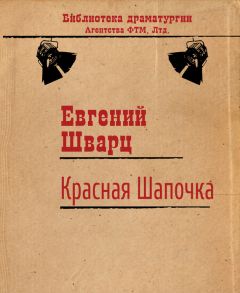Марина Палей - Ланч
До меня дошло, что, по рассеянности, он ищет портмоне — и, безусловно, тщетно. Схватив с прилавка его бесценную книжку, я жестами напомнил, что мы совершаем обмен. Он, кажется, понял. Медленно, с прежним достоинством, он застегнул плащ. Зажал в подмышке пакет. Учтиво кивнул мне. Потом бросил прощальный взгляд на книгу. И вышел под дождь.
Я остался стоять в пустом магазине. В руках у меня была маленькая книга, которую я проглотил там же, у прилавка раритетов, краем мозга моля бога, чтобы меня не отвлекали.
Меня и не отвлекли. Служащие магазина исчезли, словно их смыл дождь. И я прочел эту книгу.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Перевод с французского
ИЗДАТЕЛЬСТВО «PANTHИON» ПЛИАР АМАЙЕН
Париж, 1948
РИНГ 1Пусть лучше ударит, чем ждать, что ударит. Он бьёт. Конечно, эти удары имеют свои названия на языке цивилизации, юриспруденции, пенитенциарной системы. Но я не знаю терминов. Он бьёт. Я называю происходящее не профессионально, зато, как мне кажется, точно. Так же, как он бьёт. Называние — это мой ответный удар. Да уж, удар. Он бьёт. А я называю: он бьёт. И это весь мой удар. Нет, конечно, я еще должен махать туда-сюда кулаками. И я это делаю. Я вынужден это делать. Таково условие ринга. Итак: я, как марионетка умалишенного, хаотично и бессмысленно мельтешу кулаками. Иногда я думаю, что попал. Скорее всего, это так. Иногда мне даже кажется, что я провожу целую серию удачных, на редкость эффективных ударов. Я могу лишь догадываться. Ведь я не оставляю на нем никаких, ровным счетом никаких следов. Он неизменен. На его лицевой части нет ни ссадин, ни синяков, ни морщин, ни прыщей и ни шрамов. Ну, это понятно. Но если допустить, что он не живой, не мясной и не влажный, если он, в конечном итоге, совсем механический, то почему он не меняется в соответствии с мертвой материей? Почему у него не видно ни трещин, ни выщербин, ни подтеков? Он никакой. Он всегда одинаков. Он бьёт.
2Мне навязаны чужие, враждебные, полностью чуждые моему естеству правила поединка. По этим правилам, как по контракту, который я, кстати сказать, не подписывал, я обязан, я вынужден, за вычетом кратких тайм-аутов, до конца своих дней размахивать кулаками. Как это произошло? Не знаю. Он бьёт, мне некогда думать. Но иногда он бьёт особенно сильно, словно взрывая на дне моих глаз фотографический магний, и тогда, в такой вспышке — мгновенной, по-нездешнему белой и страшной этой неземной белизной — я отчётливо вижу, что, еще до того, как мое участие в поединке было спланировано и утверждено, я, оступившись, камнем рухнул в чужое пространство. Да: оступившись, я выпал из прежнего мира — вот так же, как одинокий прохожий ночью, во тьме, вдруг проваливается в незакрытый люк. Возможно, даже не успев ужаснуться.
В этом чужом, случайном пространстве, куда я попал по какому-то глупому, роковому, преступному недосмотру или, что одно и то же, в силу несчастного случая, я обречён до конца своих дней размахивать кулаками. Потому что именно так предписано проявлять себя механизмам чужого пространства, в частности, правилам ринга. И мне абсолютно ясно, что делаю я это не для защиты, не для нападения и, тем более, не для какого-то выигрыша. Я делаю это, потому что механизмы осуществления чужих правил, невидимые, неслышные, непостижимые, сами собой, бесперебойно, приводят в движение мои, сжатые ими же в кулаки, руки. В рамках этих правил у моих рук и у меня самого нет и не может быть других применений. Он бьёт. Его движения, возможно, управляются теми же механизмами. Какой с него спрос? Может, он тоже чужой на ринге. А может, как раз нет. Какая разница? Он бьёт.
Бриллианту долженствует быть выставляемым в ювелирном магазине. В его надменной, бархатной, лучезарной витрине. Там он чего-то стоит. На рынке бриллиант идeт за трёху. Независимо от того, поддельный он или настоящий.
Моя жизнь продаётся на блошином рынке. Она ничего не стоит. Более того, я плачу за неe сам. А для меня она стоит иначе. По сути, за вещь, которая мне навязана, тягостна и абсолютно не нужна, надрываясь, выбиваясь из сил, я плачу непосильную цену.
3Я устал. Возможно, со стороны это выглядит как-то иначе. Но я не уверен, что зрители действительно существуют. Я не всегда верю даже в того единственного зрителя, ради которого, может быть, всё это и затевалось. Я устал. Я не понимаю, почему, чего ради я должен, должен, обязан постоянно себя защищать. Нападать, защищаясь. Изображать хорошую форму. Имитировать атаку. Атаковать цель, ничего, в том числе цели, не видя. Атаковать, по сути, вслепую. Да, вслепую. Не только потому, что цель прячется. (Это, конечно, так.) Но, главным образом, потому, что я потерял еe раньше, чем она оказалась спрятанной. Я устал. Я смертельно устал. Я устал уставать.
Что именно я хочу выиграть? Ничего. Ровным счетом ничего. Я не хочу ничего, кроме покоя. За что я борюсь? Я не хочу бороться. Мне не за что бороться. Я ненавижу ринг. Боксировать меня вынуждает он. И они. Бороться смешно. Победа утомительна. Скучна. Пуста. И она дешева. За нее платишь жизнью, но она дешева. Потому что жизнь, в качестве платы за эту глупость, то есть за «победу», дешева тоже.
Я не хочу ничего, кроме покоя. Не хочу? Это неправда. У меня нет воли, чтобы позволить себе «не хотеть». У меня нету сил на «хочу», «не хочу». Покоя. Покоя. Просто покоя.
В слове «умирать» мне слышится мир. А в «умереть» — мера. Их объединяет слово «смирение». Но даже сейчас оно мне не близко. Мне родственней слово «размер». Его и надо бы соблюсти. Даже когда ты раздавлен. Покой тоже имеет размер. Лучше всего к нему подходит определение «вечный».
4Я чувствую себя прекрасно. Я обожаю ринг. Ведь ринг — это сцена. А я ведь актер? Да, миллиарды раз да! Меня наградили, именно наградили, именно меня-то и наградили, выбрав из миллиардов, не смеющих и помышлять о награде.
Меня одарили мощным и ярким талантом. За какие такие заслуги отмечен я этим избранничеством? Что за разница! Быть на ринге — величайшее счастье. Спорт, поединок — это лишь часть моего Всекосмического лицедейства. Шанс, какой выпадает двуногому так же редко, как шесть пальцев или, скажем, двойная печень.
Да что там двуногому! В этом потоке живой и мертвой материи, в этом слепом, непрекратимом потоке, разве часто — разве так уж часто — какая-либо из частиц удостаивается чести быть выхваченной из общего ряда? Волей, столь внезапной, сколь и непререкаемой — разве часто какая-либо из частиц удостаивается чести быть возведенной на тронный помост? Быть превращённой, в лучах триумфальных софитов, в культовый объект всеопоглощающего внимания?
Вероятность такой отмеченности смехотворна. Всё канет в небытие, все канут в небытие, но кто, как я, сможет быть заново вызван оттуда, взнесен, претворен в героя античного действа, чтобы здесь, на ринге, как на арене убранного розами амфитеатра, разыграть прелюдию к патетическому своему уходу? Разыграть ее трагически обнаженным, красиво залитым багряным и алым, а главное, непреложно значительным, — и всё это в восторженных взорах подкупленных балаганной мишурой благоглупых уродов, под коих-то и подлажена вся эта вонь и гнусь ринга… Липкого от пота и крови, голого рынка животной силы, нацеленой исключительно на взаимное пожирание… Вон как они раззявили свои испуганные глаза — шире ртов! О, долго будут они помнить мое представление!
Кто внушил мне, что поединок бесполезен? Кому и для чего понадобилось внушать мне мысль о моем бессилии? Этот иезуитский миф? Те, кто отравили меня этим гнойным безверием, и есть мои наизаклятые враги. А он? Просто формальный соперник в моей весовой категории. Приравненный ко мне на основании физической массы. Разве это не тупо?! Применять в качестве общего знаменателя именно весовой показатель, характеризующий неживую вещь! И разве этот знаменатель, сам по себе, не есть исчерпывающая аттестация ринга?
Мой соперник… Миляга. Забавный миляга. Мне его жалко.
Итак: кто мне это внушил? Ведь не я же сам. Я бы не смог. Откуда мне такое знать? Значит, они. Или он? Если они есть. Если есть он. Ни в том, ни в другом я совсем не уверен. Может, меня тоже нет, но мне больновато. Меня нет, но есть боль. То есть существует лишь некий носитель боли. Мысль о своем бессилии этот носитель внушил себе сам. А потому он червь, подлец и преступник. Я его ненавижу.
5Вообще-то дело совсем не в этом. При чем здесь боль. Боль возможно терпеть. Вся штука тут в унижении. Я умоляю его меня прикончить, отлично зная, что он не пойдет на это, потому что именно это мое барахтанье для него сладостнее всего. Может быть, я бессмертен? Господи, только не это! Но бесконечная серия нокдаунов, которая никак не заканчивается нокаутом, — разве это не подозрительно? Не заканчивается никак, несмотря на то, что мое сопротивление можно по праву назвать смехотворным.