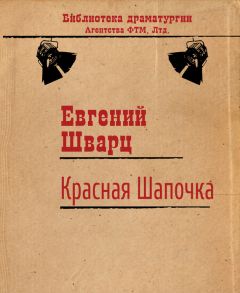Марина Палей - Ланч
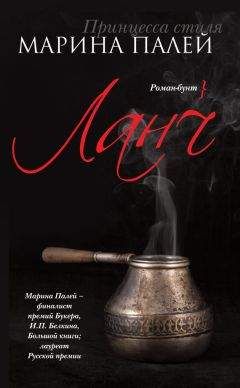
Обзор книги Марина Палей - Ланч
Марина Палей
Ланч
Роман-бунт
Следует знать, что война общепринята, что вражда есть закон.
Гераклит Плачущий1
Я люблю этот цвет абрикосов и персиков, по сути, солнечный свет. Пройдя сквозь темные лабиринты живородящих веществ, свет почти не изменяется под влиянием влажного состава плодов и выходит на поверхность фрукта в сгущенно-первозданном виде. Вот такого именно цвета моя любимая скатерть, которую я сейчас расстилаю на овальном, перешедшем мне по наследству, столе. Поверх скатерти я ставлю изящный серебряный поднос старинной работы, начищенный мной с особенным тщанием для сегодняшней трапезы. На поднос я кладу плотную, пропущенную в опаловое кольцо, поблескивающую крахмалом салфетку, такого же цвета, как скатерть, и, рядом с ней, ставлю крупную серебряную чашу для фруктов. Справа от чаши я кладу новенький нож, купленный мной по случаю у японских торговцев зонтиками и веерами. Он завернут в тончайшую папиросную бумагу, которая должна скрывать его чуть звенящее лезвие, — но сизоватое лезвие всё же чуть просвечивает сквозь вздрагивающую пленку.
Гхор-жагра, — желаю я себе приятного аппетита на языке узгурских каннибалов, — гхор-жагра. Но аппетита нет, как не было его вчера, и, как, видимо, вовсе не будет завтра.
Я внимательно смотрю на нож и вижу свое отражение в глади серебряного подноса. Серебро начищено так хорошо, что мое лицо повторяет себя без малейшего искажения, с точностью до мельчайших морщин, которые, благодаря природе зеркального материала, обретают окончательную законченность и значимость прорисовки.
Странно: это лицо плавало там, внизу, словно бы в полынье, на всём протяжении моих медленных приготовлений. Тем не менее, я заметил его только сейчас, именно в тот момент, когда, казалось бы, забыл себя окончательно.
Меню моей жизни было довольно прихотливым. Я слыл гурманом, изощренным гурманом, — по крайней мере, мне точно так и казалось. И я не могу назвать определенный момент, когда я ощутил словно подмену всех своих чувств. Конечно, подмена эта произошла вовсе не сразу. Она накапливалась под спудом, словно природа желала мирно продемонстрировать освященный законами диалектики переход количества в качество.
Но переход этот оказался для меня далеко не мирным. Я долго и жестоко болел, а когда, как мне показалось, выздоровел и даже окреп, то обнаружил, что нахожусь словно бы в пустом, давно убранном поле, и виден сукровичный закат, и нет ни единого признака, что из этого места можно уехать.
Ночь была чужая, беззвездная, с мелким дождем. Я потерял ощущение тела, душа моя спала, и я не страдал. Рассвет взошел двойником заката с другой окраины поля. Я увидел, словно со стороны, свои руки и ноги, и помню, меня поразила их форма, а цвет мне показался таким странным, что я даже вскрикнул. Чуть позже я увидел себя в толпе людей, у всех них ответвлялись из туловища такие же руки-ноги, как у меня, — вообще внешне было много схожих черт, почти всё телесное было схоже, и это привело меня в недоумение, которое сразу же стало порождать какое-то смутное беспокойство. Потом я помню себя за столом какой-то конторы, напротив меня сидит человек, такой же, как я, он открывает рот и говорит слова, потом я открываю рот и говорю слова; часть слов, мы, время от времени перебивая друг друга, произносим вместе. Вокруг нас, за столами, тоже сидят люди. Я снимаю трубку телефона, закуриваю, говорю слова, передвигаю бумаги, держа в поле бокового зрения свои наручные часы, и тут, провожая взглядом секундную стрелку, начинаю ощущать, что смутное мое беспокойство, со скоростью этой тоненькой красной черты, неудержимо перерастает во что-то другое, чему нет настоящего имени. Одна часть моего существа продолжает курить, щурить глаза, щелкать клавишами компьютера, перебрасываясь словами с соседним чиновником, в то время, как другая, полностью ей равноценная…
Несколько позже это довольно сложно стало объяснить даже себе. Ужас заключался больше всего именно в невозмутимой обыденности происходящего. Моя телесная часть продолжала спокойно и ровно строчить биржевой бюллетень. Это были зернистые строчки, переходящие местами в короткие, выделенные жирным шрифтом столбцы. Другая же моя часть… некая словно вычерпнутая из меня сущность… оказалась, условно говоря, наверху. (Это был, повторяю, условный верх, — условно взятое мной, для перевода в человеческие категории, направление пространства.) Итак, другая моя сущность находилась везде и нигде, в какой-то очень конкретной, но, вместе с тем, неопределяемой и навсегда неуловимой точке, невыразимо далекой, откуда, как я чувствовал, нет возврата. Какое-то чувство подсказывало мне, что нынче происходит лишь репетиция, блиц-обучение, показ; это подтверждала и та часть моего существа, что, вполне сохраняя и осязание, и осязаемость, продолжала бесстрастно выщелкивать цифры.
Стало быть, показ… Мне показали… Сколько это, кстати сказать, длилось? Там мне показали…
Это был эпизод как бы пятнадцатилетней давности, если отсчитывать от вех физического тела, которое продолжало деловито пощелкивать клавишами, и это был эпизод, удаленный навеки, безвозвратно, бессрочно от страшного вещества души, для которой и осуществлялся весь этот показ.
Я видел себя на кухне, рядом со своей первой женой. Мы ели то-то и то-то, потом она открыла наш холодильник и достала то-то. Я сказал ей то и то. («Знаешь, эти помидоры как-то помясистей вчерашних, но немного, вроде, сластят».) Она сказала то. («А ты посоли».) Кошка в это время стала проситься на улицу. Я ее выпустил. Вернулся на кухню.
Все наши действия, все виды предметов, продуктов и блюд, все слова, все звуки и запахи были резко определены благодаря точнейшей наводке моих чувств, и, если не все их называю словами, то лишь потому, что под углом земных представлений, в этой сцене не происходило ровным счетом ничего.
В то же самое время мне давалось некое знание (оно было дано с первой же секунды показа, а дальше эта пытка лишь длилась), мне было дано, пожалуй, самое важное знание из тех, что человеческое существо невольно (и подневольно) добывает на протяжении всей своей земной жизни.
Здесь важно пояснить разницу между знанием и информацией.
Знание есть болевая собственность сердца. Сердце является единственным органом знания — в той же степени, в какой органом земного зрения является глаз. Но сердце не справляется с хранением этой болевой собственности, потому что это хранение требует от сердца всех его усилий, без остатка, а земное сердце вынуждено пожизненно работать для прокорма человечьего мяса. Поэтому сердце время от времени сбрасывает свое знание в мозг, где оно мгновенно становится голой информацией. Эта холодная информация, хранимая в мозге, находится как бы вне самого человека, словно бы на внешнем компьютерном диске, и, несмотря на то, что мозг человека размещен внутри черепной коробки, информация пребывает словно снаружи от человека, как, скажем, данные в библиотечной картотеке или на дискетах компьютера — таково свойство информации, — и только знание способно помещаться внутри человека, потому что именно сердце помещается внутри его. (Это объяснение — часть того знания, и она, эта часть, тоже была дана мне отнюдь не в словах. Переводя сейчас эту часть знания в слова, я, конечно, уничтожаю ее.)
Итак, жена, кухня, холодильник и кошка. Этот эпизод был вовсе не из тех малозначительных бытовых картинок, которые, неизвестно почему, запоминаются на всю жизнь. Напротив, эпизод относился как раз к тем девяноста девяти процентам, что стираются механизмами оперативной памяти напрочь, причем почти в первые же часы.
…Я вижу себя за клавиатурой компьютера, в то время как «другое я» пытается словно бы увернуться от длящегося показа, что невозможно, так как то, «другое я», абсолютно бездвижное, не имеет очертаний, которые могли бы изменить свое положение, не имеет глаз, которые можно было бы закрыть, и не имеет мозга, в котором заложено устройство самообмана; а показ длится, я расписываюсь в бумагах, принесенных моим коллегой, таким же чиновником, как мое «первое я», показ длится, чиновник рассказывает анекдот, мое «первое я» слушает и хохочет, мое «другое я» зрит в то же время эпизод навсегда погасшей для меня земной жизни, эпизод из кровной моей книги, данной мне лишь для прочтения, прочитанной до конца и закрытой.
«А теперь ты расскажи-ка этот… как там еще… про лягушку…» — просит коллега, и мое «первое я», не оставляя при том клавиш, сигаретку, а также привычный прищур, и, для порядка чуть поломавшись, с небрежной ленцою заводит: ну, значит… одна интересная леди… в возрасте… гуляет себе в лесу и видит… ну, значит, лягушку, которая как раз пересекает тропинку. Лягушка открывает рот и говорит: поцелуйте меня, дорогая леди, и после этого я превращусь в прекрасного принца. Ну, леди стоит не месте и никак не реагирует. Тогда лягушка говорит: поцелуйте меня, пожалуйста, милая леди, и я гарантирую вам, что незамедлительно превращусь в прекрасного принца! Но леди стоит на месте, причем даже не отвечает. Тогда лягушка взмаливается: милая леди! неужели вам так трудно поцеловать меня один-единственный раз?! неужели вы действительно совсем не хотите, чтобы я, на ваших глазах, превратилась в молодого прекрасного принца, равных которому нет во всем мире?!! Тогда леди открывает свой рот и медленно так говорит: «To be honest… at this stage of my life… I am more interested in speaking frogs[1]».