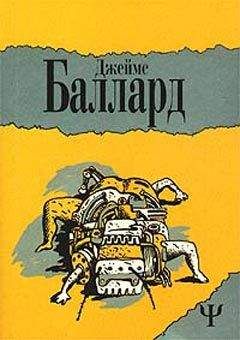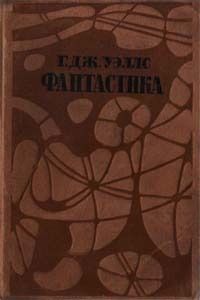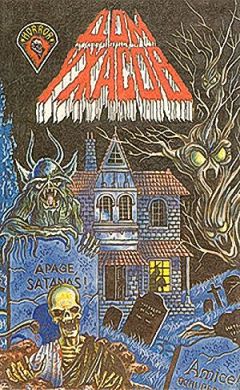Паскаль Лене - Казанова. Последняя любовь
Г-жа де Фонколомб тотчас же узнала его по непревзойденной глубине вздохов и жару молитв. И только уважение к месту удержало ее от смеха. Полина также взяла себя в руки и перестала обращать внимание на необычного раскаивающегося грешника, одетого в малиновый фрак, панталоны желтого шелка и туфли со стразами на пряжках.
Аббат Дюбуа скромно держался среди простых прихожан и вышел вперед лишь к концу службы, чтобы представить г-жу де Фонколомб сельскому священнику и личному духовнику Вальдштейнов. Разговор велся по-французски и по латыни. Полина пыталась отыскать глазами Казанову, но тот исчез тотчас после ite missa est[38].
Джакомо, конечно же, не надеялся, что его примут всерьез, но больше не страшился насмешек своей ярой противницы, которая, не в силах отказаться от колкостей в его адрес, отныне не могла и делать вид, что они незнакомы.
— Ах, как я раскаиваюсь в своих грехах! — вскричал он, ударив себя кулаком в грудь. Голос его пресекся.
— Но, дорогой друг, грехи ваши хоть и многочисленны, но, может быть, не так уж и тяжки.
— Их тяжесть как раз и состоит в их количестве.
— Слишком любить — не обязательно грешить, — произнес аббат, чье снисхождение с прошлой ночи прямо-таки не знало границ.
— Я был всего лишь презренным блудодеем, — не унимался Джакомо. — Но желаю окончить свои дни в самом строгом воздержании.
— Ваше решение как раз по вашему возрасту, — не удержалась, чтоб не съязвить, Демаре.
Но Джакомо только того и нужно было: привлечь внимание красотки к своей особе.
— Увы и ах! — трогательно согласился он. — Несмотря на все ваши прелести, дорогая Полина, даже вам не под силу сбить меня с пути истинного.
— Я и не собираюсь вставать на пути столь благородного решения.
— А вы попробуйте! Испытайте меня и увидите: я не лгу.
— Сударь, я вам верю на слово.
~~~Поднимаясь из-за стола, г-жа де Фонколомб покачнулась. Полина и Розье, зная, что она подвержена головокружениям, засуетились вокруг нее, не выказывая при этом особого волнения, и увели ее.
Казанову навестил Монтевеккьо, прибывший из Дрездена, где на него была возложена обязанность снабжать итальянской живописью галереи курфюрста[39]. При нем было письмо от княгини Лихтенштейнской, которая проследовала из Вены в Берлин. Не заехав в Дукс, поскольку была обременена неотложными делами, она извинялась перед г-жой де Фонколомб и приглашала ее навестить ее в Дрездене, где рассчитывала пробыть еще несколько дней.
Монтевеккьо торопился в Прагу и не стал задерживаться. Джакомо и не пытался его удержать: тот продолжил путь, как только подали свежих лошадей. Полине, все это время остававшейся возле своей госпожи, не привелось свести с ним знакомство; свесившись из окна, она увидела лишь, как взметнулась пыль, когда карета в высшей степени приятного молодого человека покинула двор.
В девять сели вечерять. Г-жа де Фонколомб, улыбающаяся, приветливая, была уже на ногах и в особом расположении духа. На ней были ее лучшие украшения, волосы тщательно убраны, щеки слегка подкрашены, как когда-то было модно в Версале и Париже. Казанова отвесил ей комплимент по поводу столь скорого и полного восстановления сил и ее внешнего вида.
— Я лишь пытаюсь выносить самое себя и не противиться тому, что со мной сделали годы, как попыталась бы, если нужно, носить тяжелое и устаревшее облачение, не подавая виду, чего это стоит. У каждого из нас всего по одному такому облачению, и каждому следовало бы поступать подобным образом.
— А мне, бывает, такое примерещится, — признался Казанова, — что мой ум в своем старом облачении начинает выдавать всякую чушь, и я слишком поздно спохватываюсь, что ныне я всего лишь пугало.
С этими словами он бросил в сторону Полины трогательный и робкий взгляд, надеясь, что она снизойдет до него и станет ему противоречить. Но она, как известно, кичилась тем, что ни к кому не имела снисхождения.
Розье подал фрикассе из лягушачьих бедрышек, которое приготовил, не обращая внимания на неодобрение Фолькирхера и других слуг, привлеченных на кухню запахом чеснока. Г-жа де Фонколомб поблагодарила его и пригласила разделить с ними трапезу.
— Любовные арии этих несчастных существ более не нарушат нашего сна, — заметил Казанова, — также стоило бы поступить и с некоторыми тенорами Итальянской оперы Дрездена. Слава этого заведения держится не столько на искусном пении, сколько на том удовольствии, которое предоставляется посетителям в антракте — фараон на нескольких карточных столах.
— В Дрезденской Опере играют в фараон? И курфюрст позволяет? — поразилась г-жа де Фонколомб.
— Не бескорыстно, конечно. Третья часть каждого банка, который там держат, принадлежит ему.
— Было бы весьма любопытно послушать музыку, нотами которой служат флорины и дукаты.
— Дрезден — в одном дне езды отсюда, сударыня, и княгиня Лихтенштейнская будет счастлива видеть вас.
Тут Казанова прочел письмо, доставленное Монтевеккьо.
~~~Отъезд был назначен на раннее утро следующего дня. И хотя Казанова взывал к благоразумию г-жи де Фонколомб, едва оправившейся от недомогания, и просил повременить с отъездом денек-другой, та заявила, что давно собиралась побывать в Дрездене — единственном городе Европы, где она еще не падала в обморок.
Узнав от Казановы, что там, как почти по всей Германии, превосходные окулисты, она велела взять и Тонку, чья судьба не оставляла ее равнодушной, чтобы заказать ей там искусственный глаз.
Когда Тонке сказали об этом, она бросилась в ноги своей благодетельницы. Шрёттер перевел на немецкий слова благодарности, из коих выяснилось: она не поняла, что ей изготовят стеклянный глаз, избавив от необходимости носить повязку, и думала, что окулист изготовит ей настоящий глаз.
Радость ее была так велика и так простодушно изливалась, что все были тронуты. Полина с Казановой, кажется, впервые в чем-то сошлись друг с другом и благодарили г-жу де Фонколомб.
С шести утра запрягли лошадей в берлины. Казанова занял место рядом с г-жой де Фонколомб, пожелавшей, чтобы Тонка села напротив них на скамеечку; Полина, Розье и аббат Дюбуа разместились во второй карете. Из белья и одежды захватили с собой лишь необходимое.
Казанова с г-жой де Фонколомб оказались в приятном обществе друг друга. Тонка, прижавшись к стеклу и нимало не заботясь, что о ней подумают, восторгалась всем, что видела, и старики прерывали беседу, чтобы послушать проявления незамутненной радости и разделить ее с нею.
— Я вас понимаю, такая невинность кого хочешь соблазнит, — сказала г-жа де Фонколомб. — И будьте уверены, вы ничего не отняли у этой девочки, поскольку такая душевная простота — божья благодать, которая устоит при любых обстоятельствах.
— Я лишил ее невинности, и, что бы вы ни говорили, это меня мучает.
— Уверяю вас, подобная совершенная невинность может сколько угодно расточать себя и все равно ничуть не уменьшится.
Простая крестьянка, по мнению собеседницы Казановы, обладает большим очарованием, чем гордячка Полина, заявляющая о себе, по примеру своих образцов, как о подлинной представительнице народа, которого она не знает и скорее всего презирает.
— Так что, мой дорогой друг, я вас не порицаю за то, что вы хотите совладать с нашей якобинкой, пусть вам даже придется прибегнуть к хитрости, вы нанесете урон лишь ее тщеславию, что же до ее добродетели, я не думаю, что она настолько велика, что стоило бы ее щадить. Полина так своенравна и так много мнит о себе, что вам, может быть, и удастся убедить ее в истинности вашего обращения, лишь бы она воображала, что ей одной известно о вас нечто такое…
— Именно так я и собираюсь действовать, чтобы последнее слово было за мной.
— Я же буду с восхищением наблюдать, как знаменитый Казанова возвращается к вере и готовится надеть рясу. Попробую и аббата уговорить не проявлять на сей счет сомнений.
— Об этом не беспокойтесь. Аббат готов хоть завтра причислить меня к лику святых.
— Не спрашиваю, как вы добились этого, — засмеялась она, — но бедняга Дюбуа из тех, кого легко сделать сговорчивым. Лишь однажды в жизни он проявил смелость, отказавшись присягнуть атеистам, и уверен, что этим раз и навсегда заработал спасение.
Незадолго до полудня путешественники остановились передохнуть и расположились на обочине. До самых холмов, за которыми начинались владения курфюрста, тянулись лужайки и перелески. Не было видно никакого жилья, местечко было выбрано очень живописное. Г-н Розье вытащил корзины с провизией, заготовленной в дорогу. Расположились в тени большого дуба. Тонка расстелила на траве скатерть, а Розье достал подушки: г-жа де Фонколомб пожелала, чтобы все оставили церемонии и никто никому не прислуживал.