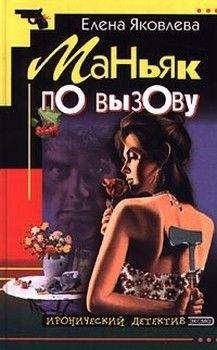Георгий Пряхин - Хазарские сны
Но в пятьдесят третьем, сразу после его смерти, Сталина поправили — стоит помереть большому политическому начальнику, как на свет сразу выскакивает какая-нибудь мелкая попранная справедливость, а то и вовсе невинность: нацепит пенсне, обует ручки в нарукавники, а ножки в валенки, вынет тоненькую редакторскую самописку и ширнет ею, как шильцем, в самую душу усопшего. Хрущев и ширнул: вернул алименты, и сотни тысяч уцелевших после войны и разохотившихся в мирных скитаниях, воспринимавшихся уже почти что раем — вроде как на войне умерли, а в сорок пятом воскресли, — мужиков крепко попали.
Сперва им сказали, что можно бесплатно и даже подталкивали к мотыльковой безответственности, а выдоив, как половозрелых осетров, велели платить. И женщины как сказились; даже те, у чьих скороспелых детей в метриках в графе «отец» стояли совершенно добровольные прочерки, вдруг задним числом всех-всех вспомнили и все-все припомнили. Так припомнили, что некоторые особо свободолюбивые мужички, вчерашние фронтовики вновь на передовой очутились: на рудо- и лесоразработках в Олонецком крае…
— Кем ты хочешь стать?..
Мы сидели в другой комнатке, вместе с детьми дядьки Ивана, в чьем доме и происходил раздел движимого материнского имущества, живого товара. Троюродные братья и сестры, особенно сестры — у дядьки Ивана четверо детей и полный паритет женского и мужского населения в рамках одной колхозной семьи — смотрели на нас с уважением: их еще никогда в жизни не делили.
Они пока всецело и безраздельно принадлежали совхозному шоферу Ивану Никаноровичу Гусеву, горячему, черноголовому и черноглазому, которого побаивалось за крутой и скорый на расправу нрав всё село, за исключением одного человека, и его жене Полине Андреевне, казачке, в отличие от него, столбового оседлого землепашца — вот она-то, коренастая, крепенькая и литая, как пулька из-под браунинга, и была тем самым единственным невеликим, но отчаянным человечком, который и не боялся Ивана Никаноровича. Когда он и на нее подымал увесистую руку, она, отважная, как, воробьиха, сразу задирала еще более увесистую скалку.
И Иван Никанорович вынужден был вяло успокаиваться: таблетка безотказная.
Всецело и безраздельно, но старшие из них, две девочки-погодки шестнадцати и пятнадцати лет, черноголовая и черноглазая, и совершенная, в маму, сметанка — та, что помладше, уже прикидывали в уме, кому б попринадлежать в дальнейшем: деревенские ухажеры с оглядкой на отцовский крупнокалиберный кулак и на материну универсальную скалку уже вились вокруг них мотыльковым столбом.
Мальчики же в этой семье были еще совсем малыши и действительно косились на нас с большой завистью: устойчивое наличие их собственных родителей (увы, нарушенное буквально через десять-двенадцать лет: дядька Иван сгорел первым — опухоль мозга, которую обнаружили, когда сама его некогда роскошная, как у Иоанна Крестителя, голова стала напоминать одну сплошную бледную, желтую, безволосую опухоль) — предопределяло и твердость местоположения самих пацанов. Не стой под стрелой! А они как раз под нею и находились, два маленьких, отчаянных — есть в кого — сорванца. Строго под родительской рукой — несмотря на их постоянное щенячье порсканье. Рука, увы, всегда поспевала, как бы споро передвигаясь вместе с ними, словно парус над челном. И даже две. То слева, то справа. То с левой, то с правой. И обе, даже без скалки, точны и отчетливы. Как ударения в русском, в котором оба они, как и их кровный батька, были несильны. Вернее так: отец был силен, еще как силен в выражениях, зато матушка — исключительно в словах. И ударениях.
А если исчезают родители, догадывались малолетние отрошники, значит, исчезает и излучаемый ими, как равномерный керосиновый свет, подзатыльник. Есть чему позавидовать!
Меня вызвали «на собеседование» в соседнюю комнату, и девочки посмотрели на меня, как будто мне предстояла высылка в Париж. Жаль только, что в жилах у нас текла похожая кровь.
* * *— Кем ты хочешь стать? — строго спросил меня, переминавшегося с ноги на ногу, самый грамотный из дядьев, бригадир ремонтной бригады совхозных мехмастерских дядька Георгий Пантелеевич. Уже седой, спокойный и рассудительный, всеми в родне воспринимавшийся как несомненный авторитет, особенно по части отвлеченных вопросов типа того, что он сам мне только что задал. Положительность его состояла еще и в том, что все вокруг него, например, уже выпили и только перед дядькой Жоркой стоял еще совершенно нетронутый стакан. Некоторые из ближайших по столу собратьев могли и спутать и, приняв за свой, хлопнуть по второй, пока доморощенный Карл Маркс собирался с духом для первой.
Я твердо знал, что никто из дядьев в писатели меня не выведет и не только потому, что на всех пятерых или шестерых тут был один исправный читатель (мечтатель) нашей сельской библиотеки, и вы уже догадались кто. Человек, способный хотя бы временно забыть о безнадзорном существовании рюмки на столе, несомненно представляет интерес либо для сельской амбулатории, либо для сельской библиотеки, благо они и находятся в одном здании и обслуживаются одной миловидной заведующей и амбулатория, как и библиотека, также специализировалась только на голове, не признавая никаких других деревенских болячек, что впоследствии дядька Иван Никанорович в полной мере испытал на самом себе. Не только потому. В деревне, всем известно, писатели вообще не получаются, тут получаются люди физические, а вот умственные — только в городах или в поселках городского типа, вследствие того, видать, что в сельских населенных пунктах почва, а в городских муниципальных образованиях — исключительно атмосфера.
Знал, повторяю, и другое: что троих вместе, в один дом и впрямь не возьмут, и мне бы надо облегчить их задачу — попасть самому в детдом или интернат. (К тому же интернат, по моим представлениям, был почти что лицей — вот где действительно одна атмосфера, никаких назёмных примесей!).
И я сказанул.
И дядьки поперхнулись. Самые впечатлительные вообще отставили граненые стаканы, что в обыкновенных обстоятельствах и представить было нельзя. Можно подумать, что уже живого писателя, да еще, не дай Бог, классика, увидали. И одно общее живое слово единовременно замерло у них на устах, и все разом вопросительно поворотились к Карлу Марксу — Георгию Пантелеевичу. Только он и мог дать достойный ответ на повисший в хате немой вопрос.
— Та-ак… — раздумчиво сказал Георгий Пантелеевич и почти как Ленин постучал костяшками пальцев по дощатому столу в районе подзабытой рюмки.
Потрясение большое, но Георгий Пантелеевич все-таки выдержал его с достоинством. Велел мне взять тетрадку в косую линеечку, карандаш и выйти в следующую комнату. В последнюю, в самую заповедную — горницу. Их всего-то в хате три: первая, вроде кухоньки, где и сидела детвора, средняя, где копошилась основная семейная жизнь, и горница, самая нарядная, куда днем никто и не заходил, не забегал и куда в конце дня удалялись на ночлег Иван Никанорович и Полина Андреевна. Причем случалось и так, что Иван Никанорович отправляться-то отправлялся (иногда в дюже наклонном состоянии), но исключительно на крашеный деревянный пол. Супружеской взбитой кровати не удостаивался. Да он и не взял бы, даже с разбегу, ее сумасшедшей целомудренной высоты и совершенно безропотно сворачивался калачиком, утратив всю свою предыдущую грозность, на тюфяке посреди комнаты, предоставляя тетке Полинке полную свободу действия: хоть казнить его, хоть миловать. Хоть раздевать-разувать его, разомлевшего (сапоги остервенело сдернуты с него еще в сенцах), а хоть и плюнуть, перешагнув через него, как через колоду. Тетка и перешагивала решительно, а ночью, слышно было, все-таки вставала, тормошила, с трудом поворачивая с боку на бок, сдирала штаны и рубашку: колода колодой, а все ж таки своя, не чужая.
Детям в горницу и ходу не было, потому что это только в литературе дети — цветы жизни, а так, на самом-то деле, натурально, это — грязь, и грязь, и грязь. Комнатка же содержалась в чрезвычайной чистоте, на которую и способны только вольные казачки (или подневольные), вынужденные проживать среди оседлых землепашцев и их языкатой родни по женской части. Чистоту эту сверкающую в горнице Иван Никанорович только и нарушал местами — на то он и большое дитё. И Полина Андреевна спускалась с горных цепей подушек и перины к нему ночью даже не столько из жалости или будучи не в силах вынести храп, которым Иван Никанорович страдал именно в пьяном виде. Собственно, градусом храпа определялся и градус выпитого накануне: водка за двадцать один двадцать с пивным прицепом в сельском гадюшнике или домашний шмурдяк бабки Лякишевой по пятерке за литр с отдачей в понедельник. Градус храпом и выходил, это было его существенное полнозвучное испарение, наполнявшее весь дом до отказа, он и сквозь печную трубу, как сквозь самогонный выхлоп, наружу, в небо прорывался, принуждая ворон перед дядьки Ванькиной хатою резко менять направление делового своего полета. Некоторые летающие субчики, правда, преимущественно из воробьиных, даже внутрь трубы клювом — оттягиваемые за фалды тверёзыми жёнами — очумело заглядывали, после чего, закатив желтенькие, кругленькие глазки свои, долго не могли взять верное направление — в сторону совхозных складов — и двигались в низеньких небесах нырками, а то и вовсе вверх тормашками.