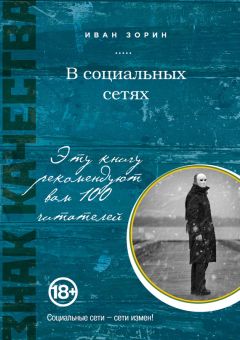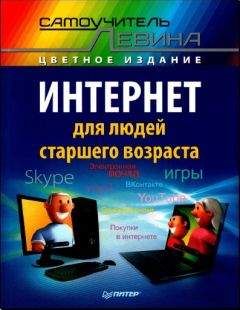Камило Села - Улей
Дон Франсиско потерял слона.
— Плохи мои дела!
— Еще бы! Я бы на вашем месте сдался.
— Ну нет, подожду.
Дон Франсиско глядит на зятя, который играет в паре с ветеринаром.
— Слушай, Эмилио, как там девочка? Девочка — это Ампаро.
— Хорошо. Уже поправилась. Завтра подыму ее с постели.
— Вот как, очень рад. Сегодня вечерком к вам зайдет мать.
— Очень приятно. А вы придете?
— Не знаю, может быть, и я смогу.
Тещу дона Эмилио зовут донья Соледад, донья Соледад Кастро де Роблес.
Сеньор Рамон выставил дубль пять, который у него чуть было не засох. Дон Тесифонте отпускает обычную свою шуточку:
— Кому везет в игре…
— И наоборот, капитан. Вы меня поняли?
Дон Тесифонте корчит недовольную мину, друзья смеются. В действительности дону Тесифонте не везет ни с женщинами, ни с костяшками. Весь день он сидит в четырех стенах, выходит только сыграть в домино.
У дона Пабло выигрышная позиция, он рассеян, почти не смотрит на доску.
— Слышишь, Роке, вчера твоя свояченица здорово ругалась.
Дон Роке досадливо машет рукой — его-де ничем уже не удивишь.
— Она всегда ругается, с руганью, наверно, и родилась. Ох и хитрая бестия эта моя свояченица! Если бы не девочки, я бы уж давно показал ей, где раки зимуют! Но что поделаешь, терпение и выдержка! Такие толстухи, да еще до рюмочки охотницы, не заживаются.
Дон Роке полагает, что ему надо лишь сидеть и ждать — со временем кафе «Утеха» с целой кучей всяких вещей в придачу перейдет к его дочкам. Если рассудить, дон Роке поступает неглупо — ради такого наследства, несомненно, стоит потерпеть, подождать хоть бы и пятьдесят лет. Париж стоит мессы.
Донья Матильда и донья Асунсьон каждый вечер встречаются — не поесть, Боже упаси! — в молочной на улице Фуэнкарраль, хозяйка которой, донья Рамона Брагадо, крашеная, но очень еще бойкая старуха, их приятельница. Во времена генерала Примо она была актрисой и сумела с грандиозным скандалом добиться доли в десять тысяч дуро в завещании маркиза де Каса Пенья Сураны — того самого, что был сенатором и дважды занимал пост заместителя министра финансов, — он по меньшей мере лет двадцать был ее любовником. У доньи Рамоны хватило здравого смысла не растратить эти деньги попусту, а приобрести молочную, которая давала приличный доход и имела надежную клиентуру. Но и кроме того донья Рамона не зевала, бралась за любые поручения и умела добывать деньги из воздуха; лучше всего удавались ей дела любовные — под прикрытием своей молочной она с успехом исполняла роль сводни и посредницы, нашептывая заманчивые, ловко состряпанные небылицы какой-нибудь девчонке, мечтавшей купить сумочку, а затем запуская руку в денежную шкатулку какого-нибудь ленивого барчука из тех, что не любят утруждать себя и ждут, пока им все поднесут на блюдечке. Особы вроде доньи Рамоны — пластырь на любую болячку.
В этот вечер общество в молочной от души веселилось.
— Принесите нам булочек, донья Рамона, я плачу.
— Вот как! В лотерею выиграли?
— Ах, донья Рамона, всякие бывают лотереи! Я получила письмо от Пакиты из Бильбао. Поглядите, что она пишет.
— А ну-ка, прочтите!
— Прочтите сами, у меня зрение совсем никуда становится. Вот, читайте здесь, внизу.
Донья Рамона надела очки и прочла:
— «Жена моего друга заболела злокачественным малокровием». Черт возьми, донья Асунсьон, значит, дело может пойти на лад?
— Читайте, читайте.
— «И он говорит, что нам уже не надо предохраняться, а если я буду в положении, он на мне женится». Послушайте, да вы прямо-таки счастливая женщина!
— Да, благодарение Богу, с этой дочкой мне повезло.
— А ее друг — преподаватель?
— Да, дон Хосе-Мария де Самас, преподает психологию, логику и этику.
— Ну что ж, дорогая, поздравляю вас! Отлично пристроили дочку!
— А что, недурно!
У доньи Матильды тоже была приятная новость — не столь определенно приятная, какой могла стать новость, сообщенная Пакитой, но все же, бесспорно, приятная. Ее сыну, Флорентино де Маре Ноструму, удалось заключить очень выгодный контракт в Барселоне на выступления в «Паралело», в блестящем спектакле-ревю под названием «Национальные мелодии», и, так как спектакль этот проникнут патриотическим духом, можно было надеяться, что власти окажут ему поддержку.
— Я ужасно довольна, что он будет работать в большом городе — деревня наша такая некультурная, актеров иногда даже камнями забрасывают. Как будто они и не люди! Однажды в Хадраке дошло до того, что пришлось вмешаться полиции; не подоспей она вовремя, эти безжалостные дикари убили бы моего бедняжку до смерти — для них нет лучшего развлечения, чем драться да говорить гадости артистам. Ох, ангелочек мой, какого страху он там натерпелся!
Донья Рамона соглашается.
— Да-да, в таком большом городе, как Барселона, ему, конечно же, будет лучше — там больше будут ценить его искусство и уважать его.
— О да! Когда он мне пишет, что отправляется в турне по деревням, у меня просто сердце переворачивается. Бедненький мой Флорентино, он такой чувствительный, а ему приходится выступать перед такой отсталой и, как он выражается, полной предрассудков публикой! Это ужасно!
— Да, конечно. Но теперь-то все пойдет хорошо…
— Дай Боже, чтобы и дальше так было!
Лаурита и Пабло обычно пьют кофе в шикарном баре неподалеку от Гран-Виа — таком шикарном, что как поглядишь на него с улицы, так, пожалуй, не сразу решишься войти. Чтобы пройти к столикам — их всего с полдюжины, не больше, и на каждом скатерть и цветочница, — надо пересечь полупустой холл, где два-три франта потягивают коньяк да несколько пустоголовых мальчишек проигрывают в кости взятые дома деньги.
— Привет, Пабло, ты уже и разговаривать ни с кем не хочешь! Ну понятно, влюбился…
— Привет, Мари Тере. А где Альфонсо?
— Дома сидит, со своими, он в последнее время очень переменился.
Лаурита надула губки; когда они сели на диванчик, она не взяла Пабло за руки, как обычно. Пабло ощутил некоторое облегчение.
— Слушай, кто эта девушка?
— Приятельница моя.
С видом грустным и чуть лукавым Лаурита спросила:
— Такая приятельница, как я теперь?
— Нет, что ты!
— Но ты же сказал «приятельница»!
— Ладно, знакомая.
— Вот-вот, знакомая… Слушай, Пабло…
Глаза Лауриты вдруг наполнились слезами.
— Чего тебе?
— Я ужасно расстроилась.
— Из-за чего?
— Из-за этой женщины.
— Знаешь что, крошка, замолчи и не мели глупостей!
Лаурита вздохнула.
— Ну конечно, и ты же еще меня ругаешь.
— И не думал ругать. Слушай, не действуй мне на нервы.
— Вот видишь?
— Что видишь?
— Да то, что ты меня ругаешь. Пабло переменил тактику.
— Нет, крошка, я не ругаю тебя, просто мне неприятны эти сцены ревности — ну что поделаешь! Всегда одно и то же, всю жизнь.
— Со всеми твоими девушками?
— Ну, не со всеми одинаково — одни больше ревновали, другие меньше…
— А я?
— Ты намного больше, чем все остальные.
— Ну ясно! Просто ты меня не любишь! Ревнуют только тогда, когда любят, очень сильно любят, вот как я тебя.
Пабло взглянул на Лауриту с таким выражением, с каким смотрят на редкостное насекомое. Лаурита вдруг заговорила нежным тоном:
— Послушай, Паблито.
— Не называй меня Паблито. Чего тебе?
— Ах, золотце, какой ты колючий!
— Пусть так, но не повторяй вечно одно и то же, придумай что-нибудь другое, мне это уже столько людей говорило.
Лаурита улыбнулась.
— А я не огорчаюсь, что ты колючий. Ты мне нравишься таким, какой ты есть. Только я ужасно ревную! Слушай, Пабло, если ты когда-нибудь разлюбишь меня, ты мне об этом скажешь?
— Скажу.
— Да кто вам поверит? Все вы обманщики!
Пока они пили кофе, Пабло Алонсо понял, что ему с Лауритой скучно. Очень миловидна, привлекательна, нежна, даже верна, но ужасно однообразна.
В кафе доньи Росы, как и во всех прочих, публика, что приходит по вечерам, совсем не такая, как та, что собирается после полудня. Конечно, все они постоянные посетители, все сидят на одних и тех же диванах, пьют из тех же чашек, принимают ту же соду, платят теми же песетами, выслушивают те же грубости хозяйки, однако, Бог весть почему, у людей, являющихся сюда в три часа дня, ничего нет общего с теми, кто приходит после половины восьмого; вероятно, единственное, что могло бы их объединить, — это гнездящаяся в глубине их сердец уверенность, что именно они-то и составляют старую гвардию кафе. Дневные посетители смотрят на вечерних, а вечерние в свою очередь на дневных как на втируш, которых с грехом пополам можно терпеть, но о которых и думать не стоит. Еще чего не хватало! Две эти группы — взять ли отдельных входящих в них индивидуумов или рассматривать их как некие организмы — несовместимы, и если кто-то из дневных посетителей случайно задержится и вовремя не уйдет, то приходящие под вечер глядят на него недобрым взором, ровно таким же недобрым, каким дневные посетители смотрят на вечерних, явившихся раньше своего часа. В хорошо организованном кафе, в таком кафе, которое было бы неким подобием Платоновой Республики, следовало бы установить пятнадцатиминутный перерыв, чтобы приходящие и уходящие не могли столкнуться даже у вращающейся входной двери.