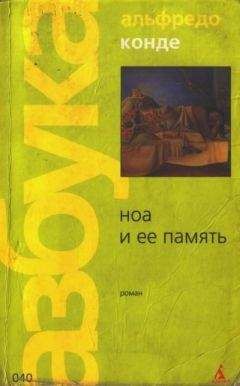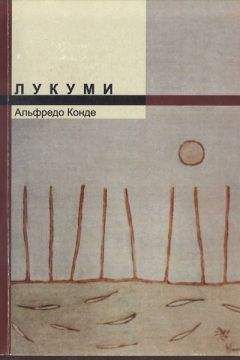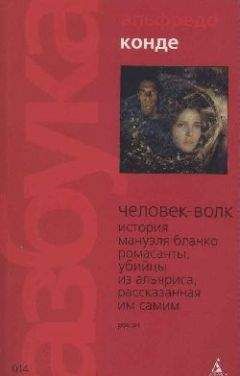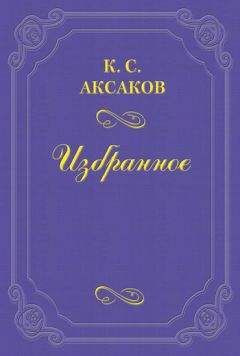Альфредо Конде - Грифон
— Но нас ждут.
— Кто? Давай, давай, заходи.
— Остальные.
Он не прореагировал и стал подниматься по лестнице. Они подошли к дверям квартиры, и она отстала на ступеньку, ожидая, пока он откроет дверь и войдет.
— Кто это «остальные»?
Девушка сочла нужным прежде всего заметить, как здесь грязно, какой беспорядок, и спросить, где же он пишет, поскольку была уверена, что он обязательно должен что-то писать; он же, ничего ей не ответив, подошел к ней, привлек к себе за талию, тонкую и сильную, и поцеловал. Она ответила на его поцелуй, потом погладила его по щеке с неожиданной нежностью, а он бормотал что-то невыносимо глупое вроде «mon bijou, mon bijou» [62], и губы его раскрывались в ожидании новых поцелуев, но девушка ловким движением высвободилась из объятий, не допуская более страстных ласк.
— Не сейчас, — сказала она ему, — ведь нас ждут, и некрасиво заставлять их ждать дольше.
Их ждали на бульваре Мирабо. Они шли молча, и писатель, немного придя в себя после душа, который он быстро принял, пока студентка ждала его, невозмутимо наблюдая, как он выходит из ванной, обернувшись полотенцем, размышлял об этой странной склонности к поцелуям, которые ни к чему не обязывают. Девушка взяла его под руку и прижалась к нему так, что он ощутил ее тело, и это возбуждало в нем гораздо больше желаний и надежд, нежели могла предложить подобная прогулка.
Увидев, что они идут, взявшись под руку, Люсиль было нахмурилась, но затем повела себя естественно и по-светски непринужденно, что ей очень шло и за что писатель мысленно ее поблагодарил. Бульвар Мирабо был переполнен; перед террасами кафе расположились вечерние аттракционы, пожиратели огня, джазовые ансамбли, фокусники, небольшие оркестры, карикатуристы, жонглеры, музыканты и поэты; установив звукоусилители, они читали скучные стихотворения, ужасные поэмы или изящные бесхитростные любовные миниатюры, вызывавшие грезы у стареньких пар, которых, впрочем, в такой поздний час здесь было совсем немного, и улыбку у молодых, угадывавших в стихах свои чувства, хоть это и не доставляло им особого удовольствия.
Писатель был красноречив; красноречив и обаятелен, великолепен и весел. Он бросал взгляды то на преподавательницу Люсиль, то на студентку Мирей и размышлял на тему о том, действительно ли возможна знаменитая «любовь втроем», или же это не больше чем рекламная выдумка с целью добывания валюты. Разошлись уже после полуночи. Писатель предложил Люсиль проводить ее, но она отказалась; в результате не он, а его пошли провожать вдвоем Люсиль и Мирей.
У дверей дома они немного постояли и распрощались; завтра рано утром они зайдут за ним, чтобы вместе пойти в университет. Писатель поднялся к себе наверх, будто взошел на Голгофу, заснул в одиночестве и проснулся очень рано; ему хотелось пить, но похмелья не было.
Парк Жозефа Жордана, в котором так любил прогуливаться араб, пишущий порнографические романы — жанр этот, как известно, переживает сейчас полный упадок, — расположен недалеко от бульвара Короля Рене; в этот ранний час в нем было очень приятно совершить долгую прогулку или же посидеть с хорошей книгой или газетой в тени одного из многочисленных растущих в нем деревьев. Алжирского писателя сейчас здесь не было: он так и не появился, ни с собаками, ни в сопровождении очередной блондинки; зато какая-то парочка загорала на траве, пока наш писатель читал испанские газеты, купленные возле бульвара Орбитель, в книжной лавке, в которой работали каталонские эмигранты, — они долго не желали разговаривать с ним по-испански и лишь после многочисленных неудач писателя в области синтаксиса и фонетики каталанского языка согласились на это, за что он был им искренне благодарен, особенно не демонстрируя, впрочем, своего удовлетворения по этому поводу. Утреннее чтение, ласковое солнце, радость, которую приносило щебетание птиц, и прочие банальные мелочи, переполняющие сердце и превращающие тебя в сентиментального глупца, особенно если ты писатель и приехал из далекой зеленой страны, разнежили Профессора, который пока что занимался главным образом тем, что позволял себя целовать. Он прочел свою лекцию о творческом редактировании, ответил на несколько вопросов и помахал рукой Мирей, чтобы она подождала его у дверей аудитории, — что она послушно и исполнила.
Выйдя на улицу, он предложил ей пойти вместе в городской бассейн, и она приняла предложение. Они шли туда сначала по бульварам Карно и Пуалю, а затем по проспекту Dйportйs du Pays d'Aix et de la Rйsistance Aixoise [63], вовсе не такому длинному, как его название, вполне достойное того, чтобы быть занесенным в «Книгу рекордов Гиннесса»; зато там было много деревьев и, разумеется, автомобилей. В это время, в одиннадцать часов утра, в бассейне было мало народу, и они смогли вдоволь порезвиться в воде и поваляться на траве газона перед зданием бассейна. Он предложил ей пообедать вдвоем, а она, в свою очередь, предложила ему сделать это за городом. Они сообщили на факультет, что не придут на обед в столовую. Сперва позвонил он, потом она, и тотчас, прямо в купальниках, они сели в машину и выехали на шоссе.
В два часа дня они приехали в Фонтэн-де-Воклюз; позади остались Салон-де-Прованс, едва различимый с автострады, Оргон, Кавельон — города, расположенные по обе стороны шоссе, безмолвные в этот ослепительно жаркий час; славные места, вошедшие в историю благодаря главным образом своему положению на перекрестке великих путей, проторенных еще римлянами.
Они пообедали в одном из ресторанчиков, не доезжая Фонтэна, оставив машину на стоянке, и писатель чувствовал себя молодым и ловким. Ему пришлось выдержать внутреннюю борьбу с собой, прежде чем он решился предложить этому милому созданию пообедать с ним, и он был весьма удивлен, когда она не только приняла предложение, но и выбрала подходящее для этого место; потом он смотрел, как они оставляют позади километр за километром, не совсем понимая, где они находятся и куда направляются. Теперь-то он знал: они в Фонтэн-де-Воклюз, и это название казалось ему знакомым, оно вертелось у него в голове, напоминая о чем-то загадочном, но он никак не мог припомнить о чем.
Их обед был скромным — салат и форель, и, когда они лакомились сливочным мороженым на десерт, он отважился спросить ее, почему она привезла его именно сюда. Она сделала страшные глаза и ответила:
— Здесь должен родиться Грифон!
Он ничего не понял. Но это уже было третье возможное место рождения, и он решил промолчать.
После обеда они пошли по направлению к Фонтэн по аллее, окаймленной ольхой, по берегу реки с быстрыми неглубокими водами, чистыми и прозрачными, ласкавшими прибрежные травы, пронизанными тем необыкновенным светом, который возможен только здесь. Они прошли, не останавливаясь, мимо сувенирных лотков и лавок художественных промыслов; она как будто спешила попасть в какое-то определенное место, хотя шла медленно, положив голову на плечо обнимавшего ее за талию писателя и приноравливая свой шаг к его походке.
— Сколько любви видела эта река! — вздохнула она.
Берег действительно был прекрасен, и, без всякого сомнения, по нему прошло множество счастливых влюбленных; хорошо сознавая, что ему сейчас подобает сделать, он прижал ее к себе и замедлил шаг.
— За сколько же сонетов должна благодарить Лаура эти быстрые воды! — настаивала девушка.
— Конечно! Петрарка, черт возьми!
До этой минуты он как-то не осознавал, что находится в Фонтэн-де-Воклюз. Почти что священное, религиозное чувство переполнило его душу; притяжение, влекущее его тело к девушке, несколько ослабело, и он стал более внимателен к движению воды, оттенкам света в ольховых зарослях, тишине, которая их окружала. Он пристально вглядывался во все вокруг, замечая форель, влекомую потоком, ветер, замерший в ветвях, застывший воздух, цвет земли; он высвободился из объятий, и они продолжали идти, взявшись за руки, пока не достигли пещеры, откуда брала свое начало река.
— Кажется, будто здесь — центр мироздания, пуп Земли.
Его взору предстала пещера гигантских, поистине соборных размеров, расположенная огромным амфитеатром; на дне ее находилось озеро, первозданный провал, существовавший здесь, по-видимому, со времен сотворения мира; это зрелище ошеломило его, вселив в него священный ужас. Он ощущал себя живым, но не мог разобраться в многообразии взволновавших его ощущений и чувств; он был потрясен, голова у него кружилась. Это было как в детстве, когда учитель вызывал его отвечать урок, и он чувствовал себя неуверенно, хоть и прочно стоял на двух ногах, и все приобретало какую-то новую перспективу, которая исчезала, стоило ему только вернуться за парту; но в критический момент учитель увеличивался в размерах, он же, ученик, становился совсем маленьким, а его товарищи вообще переставали существовать; нечто подобное испытывал теперь писатель перед громадой пещеры, которая влекла его к себе, словно затягивая и поглощая. Готовый зарыдать, он вновь привлек девушку к себе. Он долго стоял так, застыв в молчании, и, только когда тишину нарушила какая-то семья туристов, он отошел и сел на скалу, чтобы ему не мешали лицезреть это чудо.