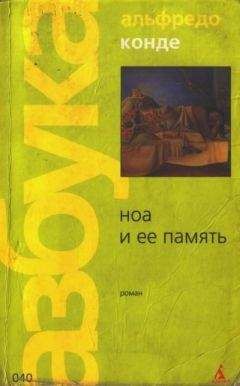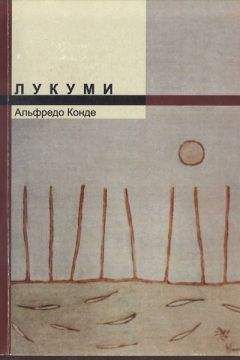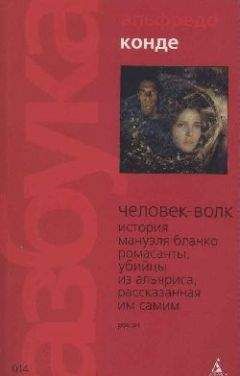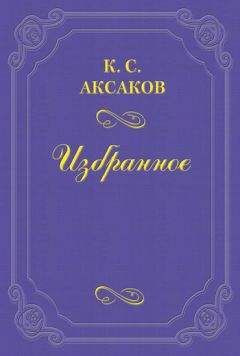Альфредо Конде - Грифон
Вопросы студентов, в которых было гораздо больше смысла, чем в ответах выступавшего, становились все более сложными, а ответы — все менее удачными. Писатель совсем заскучал, он сидел погруженный в себя, пока какая-то итальянка не спросила у рыжеватого, станет ли он защищать также и членов красных бригад; юрист ответил, что станет, если они окажутся такими же красивыми, как она. Столь игривое замечание многих заставило рассмеяться, а писателю предоставило удобный случай покинуть собрание — он сказал, что должен выйти по малой нужде и что одна из самых страшных вещей на свете — когда тебе нечем это сделать.
Он пошел выпить кофе в узкое, залитое светом кафе, в котором клиентов обслуживал алжирский писатель, работавший в основном в порнографическом жанре, переживавшем теперь откровенный упадок; наш Профессор испытывал к алжирцу чувство солидарности, но вовсе не в литературном плане, а потому, что этот араб не желал выговаривать картавое французское «эр», произнося его раскатисто и резко, будто так и надо, а еще из-за неприветливости, с которой тот относился ко всем окружающим: в его взгляде да и во всем его облике проглядывало некое племенное высокомерие. Во время ходьбы его левая рука была все время немного приподнята, словно бы он занимался соколиной охотой и в любую минуту ему на руку мог опуститься какой-нибудь залетный сокол.
Алжирец был человеком, вызывавшим либо искренние симпатии, либо органическую неприязнь, что свидетельствовало о своеобразии его натуры и незаурядных способностях; по отношению к нему весь мир делился на две части. Первую составляли женщины. Творчество алжирского писателя казалось им (или они делали вид, что казалось) отвратительным; «грязная свинья», — вдохновенно произносили они. Вторую часть составляли те, кого привлекала многоликость избранного им жанра. Как бы то ни было, он жил в прекрасном доме в районе университетского городка, знался с красивыми женщинами и ранним солнечным утром гулял с роскошными собаками в ухоженном парке, расположенном рядом с кампусом; и в этот ранний час казалось, будто парк принадлежит только ему одному.
— Мне сказали, что вы пишете роман о Грифоне, — проговорил магометанин, настоятельно предлагая Профессору виски и глядя косящими глазами на кончик своего носа. Беллетрист подумал, что он не написал еще ни строчки, а от него их ждут уже по меньшей мере целую сотню. Быть может, романы так и начинаются: «я сейчас пишу о том, как…», «я думаю, эта тема…», «завязка, кажется, неплоха…»; вот так оно и происходит — ты начинаешь рассказывать какую-нибудь историю и постепенно запоминаешь ее наизусть, повторяя ее до одурения, пока тебе безумно не надоедает уверять всех, что ты постоянно таскаешь ее в себе; и тогда не остается другого выхода, как взяться за нее всерьез, и ты наконец пишешь нечто такое, что тебе никогда и не грезилось написать. История Грифона как раз вступала на этот извилистый путь, и пройдет еще год, а он так и не разрешится ни одной фразой; но сейчас он еще соблюдал правила игры и потому ответил арабу: «Да, пишу». — «И каким же получился Грифон?» — «Ну, получилось мифическое существо с телом льва и орла, но ту часть, которая от орла, я хочу превратить в угря». — «Какую — верхнюю или нижнюю?» Наш писатель подозрительно посмотрел на коллегу и ответил, что верхнюю: «Как же он сможет ходить, если это будет нижняя часть?» Араб окинул его взглядом сверху вниз: «Верхняя? Но это же так сексуально! Не правда ли?»
Грифон преследовал его весь остаток дня и часть вечера. Люсиль же не обращала на него никакого внимания. Возможно, таким образом она хотела продемонстрировать свою независимость от него и от первородного греха или же ее разочаровало, что писатель не вполне разделял ее разыгравшиеся фантазии, а может, она действительно была очень занята организацией встречи с адвокатом, приемом, обслуживанием, проводами и подготовкой к следующему коллоквиуму. Так или иначе, Профессор был растерян, ему все надоело, и он отправился в свою квартиру в старой части города, у самого собора, недалеко от ратуши, почти на границе с алжирским кварталом.
Остаток вечера он всерьез посвятил размышлениям о Грифоне, о забавных совпадениях, с которыми ему пришлось столкнуться, и о том недобром часе, в который — только потому, что он жил в доме номер пять по Рю-де-Гриффон, — ему пришла в голову мысль предложить в качестве темы для изысканной беседы прелестным вечером за десертом дружеского ужина приключения некоего фантастического существа, прожившего множество жизней и способного передвигаться по воде с невероятной, неподвластной времени скоростью. Ему было не по себе, и он никак не мог успокоиться. Из дома по другую сторону узкой улицы доносилась музыка, включенная на полную громкость какими-то студентами. К счастью, это была классическая музыка, и не просто классическая, а очень хорошая, и постепенно его стало успокаивать гармоничное звучание, наполнившее и его комнату, и его мозг, и даже его грудную клетку, — такими прекрасными были эти проклятые звуки. И мало-помалу он начал забывать о злополучной истории, доставлявшей ему столько хлопот. Было уже поздно, он еще не ужинал, и он решил выйти, увидев, что в холодильнике поживиться особенно нечем: графин с водой, пакет молока, не внушавший уверенности в том, что срок его годности не истек уже давным-давно, пол-лимона, заплесневелый паштет и жареный антрекот, такой засохший и твердый, что он выбросил его в мусорное ведро и пошел за деньгами, которые лежали в кармане пиджака, висевшего в шкафу и ужасающе пропахшего нафталином. Он спустился, завернул за угол на улицу Поля Берта, который был, наверное, важной личностью, но о ком он абсолютно ничего не знал, зашел в магазинчик, где продавали корсиканские сыры и соленое масло, и завел беседу с хозяйкой, корсиканкой, — когда-то она изучала испанскую и португальскую филологию и потому согласилась, чтобы он обращался к ней по-галисийски, а она к нему — по-португальски; они подняли бокалы, наполненные корсиканским вином (его производят галисийцы на низменных землях острова, почти полностью занятых выходцами из Северной Африки, за исключением немногих и, судя по всему, не самых плохих участков), и выпили за победу Эдмона Симеони, добившегося широкого представительства в недавно избранном корсиканском парламенте. Это было великолепно.
Покидая магазинчик, он мысленно поблагодарил хозяйку за то, что она не говорила с ним ни о каком Грифоне да еще пригласила его выпить вина и не поскупилась, о чем можно было судить, глядя, как он возвращался домой: его походка была не очень уверенной, и он шел зигзагами, разнеженный приемом, который оказала ему корсиканка. «Какой приветливый народ эти островитяне, — говорил он себе, — история сурово обошлась с ними, и они похожи на нас: у них такие же каштаны, и туманы, и теплые дожди и они тоже немного пираты, хотя и не так рискуют жизнью, как мы». Он испытывал нежность к этой стране, народ которой был гордым и своенравным, суровым и молчаливым; он не скоро одаривал своей дружбой, но, одарив, до конца оставался ей верен. «Они так похожи на нас, что в любой момент, — думал писатель, — у них может появиться какой-нибудь фанатик, который захочет воссоединить их с Сицилией или Сардинией; ведь у нас в то время, как баски желают присоединиться к Северной Басконии [59], а каталонцы — к Руссильону [60], находятся умники, которые мечтают о воссоединении Галисии с Португалией, о дерзкие!»
У дверей дома его поджидала одна из любимиц Люсиль, которая рассмеялась, увидев, как неуверенно, пошатываясь и совершая несуразные движения, он идет.
— Откуда это вы? — спросила она весело.
Писатель замер на месте, оглядел ее сверху донизу, опустил голову, потом, медленно подняв ее, гордо произнес:
— Я только что основал патриотическое движение за возрождение единой Галисии по обе стороны от реки Миньо.
Затем, воздев руки и возвысив голос, он провозгласил:
— Смерть империализму! Но раз он все-таки существует, то лучше уж самим быть империалистами, чем страдать от него. Галисия до самого Дуэро! [61] Дуэро принадлежит нам!
Он замолчал, снова оглядел ее и заключил:
— Ты ничего в этом не понимаешь, ладно, пойдем наверх.
В руках у него был сыр, хлеб и бутылка красного вина, которую он продемонстрировал ей, пока говорил.
— Но нас ждут.
— Кто? Давай, давай, заходи.
— Остальные.
Он не прореагировал и стал подниматься по лестнице. Они подошли к дверям квартиры, и она отстала на ступеньку, ожидая, пока он откроет дверь и войдет.
— Кто это «остальные»?
Девушка сочла нужным прежде всего заметить, как здесь грязно, какой беспорядок, и спросить, где же он пишет, поскольку была уверена, что он обязательно должен что-то писать; он же, ничего ей не ответив, подошел к ней, привлек к себе за талию, тонкую и сильную, и поцеловал. Она ответила на его поцелуй, потом погладила его по щеке с неожиданной нежностью, а он бормотал что-то невыносимо глупое вроде «mon bijou, mon bijou» [62], и губы его раскрывались в ожидании новых поцелуев, но девушка ловким движением высвободилась из объятий, не допуская более страстных ласк.