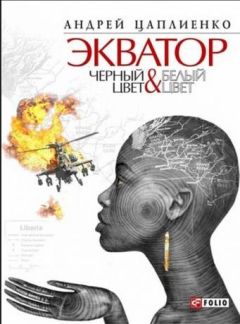Андрей Цаплиенко - Экватор. Черный цвет & Белый цвет
Тем временем мы дошли до дверного проема хижины. Откуда дети знали, что мне нужно именно сюда, я и понятия не имел. Во всяком случае, я пришел по адресу. В дверях показался высокий старик с лицом, настолько испещренным морщинами, что, казалось, на нем лежит паучья сеть, сквозь которую на собеседника внимательно смотрят большие глаза, чуть на выкате. На его непокрытой и почти что лысой голове виднелись островки седых волос. Старик, в отличие от остальных сельчан был одет не в красные традиционные тряпки, а в костюм цвета необработанной холстины. Свободная рубаха-балахон навыпуск и штаны, свисавшие на заднице почти до самой земли, как у американских хипхоперов.
Старик что-то крикнул ребячьей толпе, и дети замолчали. Их руки, как по команде, ослабили свою хватку, и я оказался на свободе. Я протянул свою ладонь старику для рукопожатия. «Я Андрей. Эндрю. А вы Гриссо?» Старик ничего не ответил и лишь кивком головы дал понять, мол, следуй за мной. На мою руку Гриссо — а это был именно он — внимания даже не обратил.
Мы вошли в его дом. Внутри было темно (хочется сказать, как у негра в желудке, но я не скажу), как в пустом трюме Гришиного парохода. Сделав пару шагов, я тут же наткнулся на какую-то мебель, скорее всего, стул или скамейку. Я чуть было не упал, но старик тут же схватил меня за руку и повел за собой. С другой стороны его хижины, оказывается, тоже была дверь. Она вела в небольшой дворик, с оградой наподобие ивовой, этот дворик был не виден со стороны деревенской площади. За домом Гриссо росли бананы. А под ними на грядках зеленели странные растения, похожие на укроп, но только в несколько раз выше. Кроме этого либерийского укропа я заметил самую обычную коноплю, обступившую — кто бы мог подумать! — диковато смотревшийся здесь розовый куст.
Старик уселся на низенькую скамеечку под банановым деревом.
— Садись — заговорил он на английском, похоже, вполне разборчивом, — Что надо?
— У меня друг умирает, — сказал я и сел на какой-то пень, на котором, очевидно, этот дед рубил дрова.
— И что? — переспросил старик.
— То есть, как «что»?
— И что ты хочешь? Помочь ему умереть без боли или спасти ему жизнь?
— Если бы я хотел сделать первое, то не приехал бы к Вам.
Гриссо задумался. Потом сказал:
— Ты знаешь, нас, настоящих докторов сейчас не любят. Тем более, такие, как ты. Чужаки. Если уж ты пришел ко мне, значит, другу твоему совсем плохо. А хочешь, я скажу, что с ним?
Я кивнул. Старик меня раздражал.
— Сейчас его трясет, он перестал различать и день и ночь, и вкус, и цвет, и боль, и радость, из него уходит влага, и он похож на тень от самого себя. И эту тень надо ухватить.
На меня не произвел впечатление этот диагноз. Такое можно сказать по поводу любого больного в этой стране. И потом, если белый от отчаянья приходит к черному целителю, можно догадаться, что дело с больным обстоит серьезно, поэтому говорить можно все, что угодно. Я засомневался, а стоит ли мне здесь вообще оставаться. Старик уловил мое раздражение и сомнение.
— Ладно, где твой друг?
— Он в Монровии, в иорданском госпитале.
— Тогда вези его сюда.
Мои глаза стали круглыми и выпуклыми от удивления, почти такими же круглыми, как у этого шарлатана.
— А чего это ты на меня так смотришь? Мне нужна моя трава, свежая трава, а в госпитале ее не будет.
Я подумал. Шансов на благополучный исход для русского моряка было мало. А ему самому уже было все равно, где лежать — то ли на койке в госпитале, то ли в этой хижине.
Волков уже ничего не соображал. Когда я привез его на следующий день в эту деревню, старик выглядел совершенно по-другому. Он замотался в красную тунику, оставлявшую голыми его руки, которые были украшены многочисленными браслетами из белого металла. Григория мы вместе с санитаром из госпиталя принесли на носилках. Дети на этот раз нас не встречали, да и вообще деревня производила вид брошенной. Только из-за дома Гриссо доносился ритмичный бой нескольких тамтамов и гортанный голос выкрикивал какие-то фразы на незнакомом мне языке. Мы подошли к дому Гриссо и попытались внести внутрь носилки. С первого раза это не получилось, носилки пришлось немного повернуть, да так, что Гриша чуть не оказался на полу. Придерживая его, мы затащили носилки в дом. Гриссо услышал возню у себя в доме, и зашел внутрь со стороны двора. В руках его была то ли свечка, то ли зажженная лучина. Я впервые увидел его жилище изнутри. Ничего особенного. Из мебели три табуретки, да комод, сбитый из досок так неаккуратно, что он, скорее, напоминал, ящик для хранения картошки, чем деталь интерьера. Но этот комод все же имел отношение к мебели. Старик подошел к нему и, открыв грубоватую дверцу, достал из него тыквенный калабаш со сложным орнаментом. Калабаш был довольно большой, и было отчетливо слышно, как внутри его плещется какая-то жидкость. «Кровь для Водуна,» — сказал старик по-английски едва слышно. Санитар неодобрительно покачал головой. «Несите сюда,» — приказал нам Гриссо и вышел на задворки своего дома. Мы повторили ту же процедуру с протаскиванием носилок через узкую дверь.
Во дворе все уже было готово для церемонии. Трое юношей с закатившимися глазами яростно отбивали ритм на своих тамтамах. «Тук-тук, тук, тук-тук!» — глухо и грозно отзывалась кожа барабанов на движения черных рук. Там, где во время предыдущего моего визита стояла скамеечка, на которой сидел Гриссо, теперь лежала охапка банановых листьев, покрытая какой-то дерюгой серого цвета. Рядом с охапкой стояли несколько тыквенных калабашей, размером поменьше того, который держал в руках Гриссо. Неподалеку был устроен очаг из камней, на котором в закопченном котелке что-то булькало и кипело, скорее всего, вода.
— Кладите его туда, — указал Гриссо на листья. Мы выполнили приказание.
— Носилки унесите с собой, — попросил знахарь, когда мы переложили бредившего Волкова на стог этого бананового сена. Он что-то невнятно бормотал, это бормотанье было похоже на речитатив, отдельные слова которого разобрать было невозможно.
— А теперь идите! — крикнул мне Гриссо, после того, как Григорий оказался на этой копне.
— Я хочу остаться, — попытался я возразить.
— Нет, ты не должен видеть, как я разговариваю с Водуном, это мое табу.
— А этим, значит, можно, — я кивнул на подростков с барабанами.
— Завтра они ничего не вспомнят. Это их работа.
Я еще раз посмотрел на юношей. Они явно находились в состоянии транса, но, не замечая друг друга, тем не менее ухитрялись держать один ритм.
— Чего смотришь, ступай скорее отсюда, — выталкивал меня в спину этот странный дед. Санитара выталкивать не было необходимости — он вышел из дома по первой же просьбе хозяина.
— А когда...? — хотел задать я вопрос лекарю.
— Когда приезжать? — выдохнул Гриссо. — Через три дня. И не надо брать с собой никого. Если что, справишься сам.
Но справляться самому не пришлось. Через три дня Гриша Волков уже встречал меня возле входа в хижину Гриссо. Он был худ и слаб, но он ходил, разговаривал и на полную катушку радовался жизни. Он то и дело обнимал старика, приговаривая «Ах, ты вредный докторишка!» по-русски. Старику это не нравилось, он сердился и ругался на своем непонятном языке.
— У меня для вас есть деньги, — сказал я ему почти с порога.
— Положи здесь. — старик указал на все ту же неизменную скамеечку, что стояла у него во дворе. — Деньги не берут из рук в руки.
— У нас берут, — говорю ему.
— Поэтому вы их так быстро теряете.
— А у вас, черных, их вообще не бывает, — огрызнулся я. — Поэтому вы их постоянно выпрашиваете.
— Значит, нам нечего терять. — сказал Гриссо и подмигнул своему белому пациенту. — Правда, Грег?
*****С Гришей что-то случилось. Он изменился, причем, не внешне, а как-то неуловимо внутренне. Та же одежда, тот же взгляд. Но вот какое-то несвойственное ему движение головой, словно внутри себя он слышит ритм тамтамов, под грохот которых старик лечил его от лихорадки. И эти вялые африканские жесты руками. А, может быть, и запах. Мне показалось, что от Гриши пахнет немытым африканским телом. Так же, как и от старого знахаря.
Я сполна расплатился со стариком. Волков говорил мне потом, что он мой должник и что отдаст мне долг сполна. Он еще не знал, что пока его лечил Гриссо, либерийский суд признал его частично виновным в том, что произошло на борту его судна, мол, не обеспечил охрану. Исполнители еще раз арестовали «Мезень», якобы в пользу выплат семьям пострадавшим. Но я-то знал, что никто ничего платить не будет. В историю с пароходом я не вмешивался. Все же министр внутренних дел бывал у Чарли-боя куда чаще, чем я.
Волков вернулся в Монровию и затеял судебный процесс с правительством Либерии. Он апеллировал к местному суду, к международным организациям, вплоть до Объединенных Наций. ООН подтверждала его право на судно и заявляла решительный протест властям, но те не обращали внимание. Либерийская фемида была непреклонна. А между тем старший сын министра внутренних дел начал потихоньку ремонтировать пароходик. Вернул на борт генератор, который забрал его папаша, и запустил на «Мезень» целую бригаду судоремонтников. Он хотел сделать из парохода что-то вроде плавучего борделя. И, кстати, для этой цели предполагалось выписать сюда даже девушек из Европы. Восточной, конечно. От Гриши эти планы никто не утаивал. И чем активнее Волков боролся за свой пароход, тем более непробиваемой казалась стена местного закона. Или же беззакония.