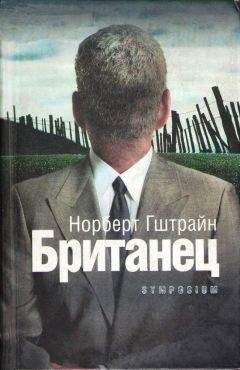Норберт Гштрайн - Британец
Когда я заговорила об этом, Кэтрин засмеялась:
— Да он же все сочинил!
Тут я рассказала о том, что узнала от Маргарет, и, словно испугавшись самого звука этого имени, Кэтрин вдруг стиснула руки и всем телом подалась вперед.
— А что ж, соврет — недорого возьмет! — Ее лицо осветилось последним отблеском солнца, еще не закатившегося за крыши домов на противоположной стороне улицы. — Ну да, очень интересно. А вот как к этому относиться — другой вопрос.
Никуда не годное объяснение, прочти я что-то в таком духе в романе, тут же отшвырнула бы книгу: убийство, видите ли, вдруг оказывается вымыслом! Но я-то не роман читала и потому задумалась, отчего Кэтрин так враждебно относится к Маргарет, — она тут же с упреком заговорила о том, что Маргарет якобы не оценила Хиршфельдера и не поняла его творчества, которое считала причудой, способом убивать время; помню, Кэтрин даже обвинила Маргарет в том, что, так-таки совершенно ничего не поняв, она выбросила рукопись, и теперь ее невозможно найти, хоть и трезвонит об этой рукописи весь мир. Еще она предположила, что Маргарет, у которой аккуратность была чем-то вроде пунктика, выбросила рукопись как хлам, мусор, то есть Хиршфельдера, умершего, убила во второй раз. Мне до сих пор не ясно, почему она вдруг перестала владеть собой, как только я упомянула Маргарет, почему говорила о ней с неприкрытым осуждением и определенно ожидала, что я приму ее сторону или начну защищать Маргарет; возможно, это было связано с тем, что она до последней минуты считала, что знает Хиршфельдера как облупленного, придя к такому выводу, должно быть, из-за его регулярных посещений, — а у него вошло в привычку навещать ее, и в течение многих лет он в первое воскресенье месяца приходил обедать — сам тон Кэтрин, когда она рассказывала о его визитах, глубоко ностальгический тон, служил тому подтверждением; я попыталась представить себе, как они вдвоем, а иногда и втроем, с дочерью, садились обедать, и она доставала из серванта посуду, которую приберегала для особых торжественных случаев, ставила на стол изысканные блюда, а ее муж в эти часы бесцельно бродил по городу или, уже после инсульта, лежал в смежной комнате, проклиная судьбу-злодейку. Может, так, а может, объяснялось все куда банальнее — после смерти Хиршфельдер равно принадлежал всем трем женам, Кэтрин, Маргарет и еще одной, той, что написала мне из Вены и в письме потребовала, чтобы я перестала тревожить покой умершего; наверное, все объяснялось тем, что у каждой из них был свой образ Хиршфельдера, и когда смерть смешала карты времени, все эти образы внезапно обрели равные права, они существовали здесь и сейчас, и точно так же они существовали в прошлом, фрагменты, которые заняли место самого Хиршфельдера, а сколько лет с тех пор прошло, не играло никакой роли.
Говорить с Кэтрин о двух ее, так сказать, преемницах оказалось мучительно трудно, но все же я ее спросила:
— Вы знакомы с Маргарет?
Она отрицательно покачала головой, но тут же сказала: все, что ей известно о Маргарет, она узнала от самого Хиршфельдера — случалось, он, придя в очередной раз, изливал ей душу.
— Очень хотел устроить нам встречу, но я была категорически против, — сказала она. — Видите ли, после всего, чего я о ней наслушалась, думаю, мне было бы трудно найти с ней общий язык.
— Ну а с другой его женой? — Я задала вопрос как можно непринужденнее.
— С Мадлен-то?
Она вдруг рассмеялась, чего я никак не ожидала.
— Мадлен — она же сущий цыпленок, едва вылупившийся!
Что ж, и то — характеристика. Но когда я, прицепившись к этим словам, попросила рассказать подробнее, Кэтрин сразу пошла на попятную.
— Один раз, кажется, мы случайно встретились в кафе, — уклончиво ответила она. — Это было почти тридцать лет назад, уж и не помню, может, мы с ней поговорили, а может, и нет.
Три жены, она — первая, его любовь к ней была совершенно невероятным приключением — случайно познакомились на улице, потом никаких встреч, в течение года с лишним только переписка, она началась, когда ему разрешили раз в две недели посылать одно письмо со строго ограниченным числом строк, и в каждом письме он уверял Кэтрин, что безумно хочет с ней увидеться. Может, она ему писала, может, и нет, — дело давнее, но не было сомнений — он не забыл их первую встречу, постоянно напоминал о ней, постепенно стал придавать этой встрече буквально мистическое значение и чуть не в каждом письме повторял, что они предназначены друг для друга, и, расчувствовавшись, называл ее своим сокровищем, ни разу хотя бы словечком не обмолвившись о Кларе, как будто той на свете не было. Рассказывала Кэтрин суховато, да и вообще заявила, что отвечала на письма исключительно из чувства долга — она не опустилась бы до каких-то других отношений, и когда она послала ему посылку, уже осенью, — банку варенья, шарф, который сама связала, и несколько книг, так как он пожаловался на скуку, словно не знал, что Лондон днем и ночью бомбили, — то, по ее словам, сделала это лишь потому, что все женщины тогда посылали посылки, кто брату в Северную Африку, которая, по представлениям Кэтрин, находилась не дальше, чем Мэн, кто — мужу, на Мальту, где тот служил, кто-то еще посылал вещи детям, отправленным в сельскую местность, да, наконец, просто с благотворительными целями. Посылка была пожертвованием, Кэтрин принесла жертву, но не ему, а неведомым богам, она исполнила свой долг и больше об этом не думала. Воспоминание о прогулке по ночному городу потускнело, и когда в конце следующего лета он шагнул ей навстречу в холле гостиницы, это был чужой, едва знакомый человек, и пусть он снова и снова заводил речь о том, что ему очень хотелось бы пешком пройти с ней весь тогдашний путь и ставить памятники везде, где им доведется провести ночь, по примеру царя, о котором она рассказала при их первой встрече, — тот во время долгого свадебного путешествия водрузил множество памятников своей жене, но на самом деле Хиршфельдер все перепутал: царь воздвиг всего один памятник — мавзолей на могиле супруги!
— С цветами явился, — сказала она неодобрительно и лишь через некоторое время улыбнулась. — Представляете? С цветами!
Почему бы и нет? Что тут особенного? Но я автоматически переспросила и уже не удивилась, услышав ответ:
— Принеси он фунт мяса, было бы куда лучше. А он что выдумал — в самые трудные военные дни с цветами явился!
И все-таки для меня было неожиданностью то, что она, оказывается, по сей день не знает, почему не сказала ему тогда, что все было недоразумением, почему не «отшила», то ли из жалости, то ли просто духу не хватило, — ведь он ни секунды не сомневался в том, что ему нужна она и только она, я попыталась представить себе, как он стоял в холле гостиницы — в позаимствованном у кого-то костюме, в котором выглядел не лучше гуляки, прокутившего ночь на празднике, в рубашке с потертым воротником, а швейцар подозрительно на него косился, и вообще Кэтрин заметила, что со времени той единственной встречи он сильно постарел. Дешевая забегаловка, куда она его затащила, может быть, чайная в подвале с окнами на уровне тротуара, да еще заваленными мешками с песком, отдаленные шаги прохожих, голая лампочка под потолком, от ее света — как бы грязноватая пелена на пустых скамейках, и нарочитая вежливость Хиршфельдера, то, как он в дверях пропускал ее вперед, в чайной сидел напротив и смотрел на нее, она же то и дело беспокойно отводила глаза, оглядывалась и наконец решительно встала, — так ли все было или по-другому, не знаю, но только картины эти возникали у меня в воображении, когда я глядела на Кэтрин. Потом она упомянула, что он в тот день слишком много говорил, и мне представилось: он вдруг заметил свою болтливость и сразу примолк; почему-то пришло в голову: а вот если бы в тот день лил дождь как из ведра и они бы шли по улицам под дождем, — дурацкая фантазия — и у него был бы зонтик, вот он его раскрывает и уже ничего не говорит, ни слова, просто идет, касаясь ее плечом, прямо по лужам, чуть не по щиколотку в воде, и еще мне захотелось, чтобы все-таки хоть отчасти верным оказалось замечание, однажды оброненное Максом, — Хиршфельдер не знал отбоя от женщин.
— Уверена — в душе он был неисправимым мечтателем. — Я выступила в его защиту, хоть и не слишком горячо. — Вам следовало сделать на это поправку.
Она не ответила, только подняла на меня глаза, и моя реплика сразу показалась глупой; дальше Кэтрин рассказывала, пожалуй, еще более сухим тоном, словно вся эта история не имела отношения к ней самой.
Выйдя на свободу и вернувшись с острова, он был взят на службу в саперные войска, попал в часть, которая проводила какие-то работы в лесах Глостершира, и, приезжая в Лондон, а это случалось раз в две-три недели, первым делом спешил к Кэтрин, встречал ее вечером, а позднее, когда она устроилась на выходные дни водителем автобуса, иногда садился на остановке и до конца ее смены сидел за водительской кабиной, а то поджидал возле снарядной фабрики, расположенной в южной части города, туда, на фабрику, она попала уже в конце войны. Обычно она тащила его в гости к каким-нибудь знакомым, или они шли в паб, она знала, что там не окажется с ним наедине, и он весь вечер сидел среди чужих людей, замкнувшись, — его английский все еще никуда не годился, в минуты волнения он переходил на отрывистый немецкий, и нередко у Кэтрин возникало ощущение, что он, похоже, получает удовольствие, радуется, если случались недоразумения, — без них, конечно, не обходилось, — может быть, он даже нарочно их устраивал, в отместку за свой арест, который он всю жизнь вспоминал с обидой даже более глубокой, чем свое вынужденное бегство из Вены, при каждом удобном случае он говорил, что совершенно не рассчитывал на подобное обращение в цивилизованном обществе. Кэтрин было непонятно, почему после первого вот такого «свидания» он не перестал приходить, а впрочем, если он заводился, ему было море по колено, хотя, может быть, он просто умел скрыть досаду, говорил, что у него выдались большущие каникулы, свалились как снег на голову, — это о заключении в лагере! — целый год на солнышке у моря, да еще на всем готовом, и в свой черед безропотно выслушивал истории из жизни героев, все с одной болванки, бесконечные рассказы про то, чего они тут натерпелись, пока он отсиживался где-то вдалеке; он втягивал голову в плечи и молчал, если нагловатые собеседники называли его трусом, который объявился, когда самое страшное осталось позади. Здесь-то у каждого разбомбило дом, не у него, так у соседа, и ночами они тут не спали, сидели в убежищах, изнывали в духоте и тесноте, а нет, так дома лежали без сна, заткнув уши ватой, и еще много месяцев спустя всем мерещилось гудение бомбардировщиков, свист, грохот разрывов, шипение на асфальте зажигательных бомб, у каждого, как выяснялось, был друг, погибший под развалинами, или сбитый в небе над Ла-Маншем, или пропавший без вести в Атлантике; Кэтрин понимала: только она виновата, если эти люди нападали на него, как будто он в чем-то виноват. Тут ей становилось жаль Хиршфельдера, ужасно хотелось его защитить, но чаще, пожалуй, предостеречь, попросить, чтобы он не болтал каждому встречному и поперечному, что он еврей, ведь даже в этой стране находились непрошибаемые, и они-то, разумеется, прекрасно знали, кто опять сумел устроиться лучше всех, занял лучшие здания в лучших кварталах, в Белгравии или возле Грувнор-сквер, кто норовил содрать полную квартирную плату за жилье в разбитом доме, кто заламывал цены на черном рынке и без зазрения совести кичился своим богатством.