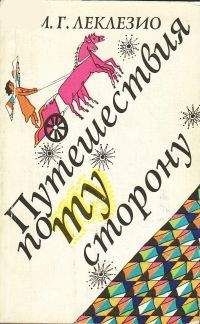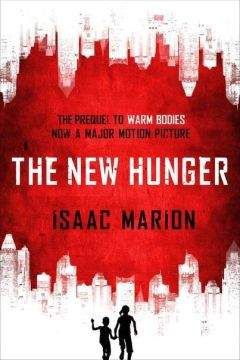Жан-Мари Леклезио - Танец голода
— Мадемуазель Брен, я посмотрю, что можно сделать. Надеюсь, еще не поздно договориться с банком. Но не ждите от меня чего-то сверхъестественного, я могу всего лишь дать совет вашему отцу и не в силах исправить то, что им содеяно.
— Даже если он в тот момент был нездоров и не мог принимать столь ответственные решения?
Бонди понял мысль Этель раньше Жюстины.
— В этом случае необходимо доказать, что ваш отец находился тогда под опекой. Требуется заключение врача, которое…
— Никогда! — Жюстина сорвалась на крик. — И речи быть не может, я никогда не соглашусь на столь отвратительный шаг.
Они вышли. На сей раз Этель не взяла мать под руку. Она шла быстро, впечатывая каблуки в асфальт. Бульвар Монпарнас был шумным и многолюдным. На террасах кафе мужчины и женщины пили пиво, легковые автомобили и грузовики стояли в пробке на перекрестке с авеню дю Мен. Этель продолжала идти — без устали, не оглядываясь, слыша позади жалкое прерывистое дыхание матери, семенившей следом; должно быть, при каждом вдохе вуаль прилипала к ее лицу. «Всем этим людям, — размышляла Этель, — безразлично происходящее вокруг, каждый в своей скорлупе. Одни прогуливаются, другие делают вид, будто спешат по делам. Серьезные люди, содержанки, художники. Бульварная комедия. Никто по-настоящему ни о ком не заботится. В этом городе легко потеряться; заметишь кого-то на бегу, как на уроке гимнастики в лицее, — и сразу же теряешь из виду, забываешь о нем и скорей всего больше никогда с ним не встретишься».
И тут она подумала о Ксении. Ее образ возник перед глазами — так же неожиданно, как до того пропал на несколько месяцев; сейчас Этель еще сильнее нуждалась в подруге. Где-то здесь, в Париже, Ксения живет своей жизнью. Семья Шавировых переехала, не оставив нового адреса. Этель часто думала про мастерскую на улице Жоффруа-Мари, но так и не набралась смелости пойти туда. Можно было бы схитрить, устроить засаду в соседнем кафе, дождаться появления Ксении или ее сестры Марины, но сама мысль о насмешливых взглядах хозяина заведения или о пристальном внимании мужчин, бродящих по этому нехорошему кварталу в поисках девушек, вызывала у нее страх. Ксения была ее подругой. Единственной. Самой близкой, ее мнение всегда оказывалось решающим. И теперь, устремившись вперед в толпе прохожих, впечатывая каблуки в асфальт, она решила стать похожей на Ксению. Быть решительной. Сражаться за жизнь. Смеяться надо всем и всеми. Образ подруги явился Этель издалека, для того чтобы помочь ей выстоять.
Волна пьянящего счастья. Этель сбавила шаг и даже на мгновение остановилась на краю тротуара, как бы выбирая дорогу. Запыхавшись, Жюстина нагнала ее и взяла за руку: «Ты слишком спешишь, я так не могу». Мать казалась легкой, как птичка.
Этель вдруг всё поняла. И взглянула на мать. С другого конца города она обращалась к Ксении. Свою историю ведь никто не выбирает. Она дается человеку не потому, что он так хочет. И никто не имеет права отказываться от своей истории.
Разумеется, все усилия пропали даром. Словно судьба их семьи уже была предрешена и невидимая нить, связывавшая Александра и Жюстину, тянула их ко дну, топила в несчастьях. Господин Бонди позвонил на следующее утро. Ему удалось договориться о продаже долгов с аукциона, покупатель готов был полностью выкупить их в обмен на землю и недостроенное здание. Александр оставался владельцем квартиры на улице Котантен и художественной мастерской, о прочем можно было забыть, отринуть, как страшный сон. Жюстина ожидала возвращения супруга: надела красивое платье, причесалась, напудрилась и надушилась. Приготовила чай и кукурузные пирожные, Этель помогла матери накрыть на стол. Ожидание было возбуждающим — будто Одиссей возвращается на Итаку, подумала Этель. Все — таки, несмотря ни на что, — небольшой маскарад. Александр пришел вечером. Жара так утомила его, что он просто рухнул в кресло. И даже не взглянул на накрытый стол. «Сделано, — произнес он. — Всё. Больше никаких долгов. Начинаем новую жизнь». Этель взглянула на мать. Жюстина все еще не понимала. Она стала задавать вопросы, ее голос звучал крещендо. Комедия, да и только. Опера — точнее, оперетта. Этель вообразила музыку — быстрый, чуть прерывистый танец. «Зачем? Зачем?» Александр громко, с тягучим маврикийским акцентом оправдывался — одним и тем же «А что еще мы могли сделать?». Это напоминало фразу, которую он произносил раньше в гостиной: «Чтоможносделть?» От жары его лицо стало коричневым. После болезни он перестал красить бороду, и теперь по обеим его щекам сбегали вниз серебристые нити.
Новая жизнь! Александр продал всё — квартиру и мастерскую — парижской автомобильной компании «Горожанин», расположенной на улице Дюто, двадцать девять. Если бы ему удалось, он пустил бы с молотка мебель, фортепиано и даже ужасного «Иосифа, проданного братьями», приписываемого кисти Фландрена. Именно этим он и занимался весь день: ставил свою знаменитую подпись — «Александр» в окружении завитушек — на всех необходимых бумажках, из которых следовало: больше ничего, ничего не осталось, только глаза Жюстины — чтобы плакать.
Несмотря ни на что, Этель съязвила про себя: «„Общество по разработке сокровищ Клондайка" приобретено таксопарком — таков финал всей этой истории!» Александр не слушал их крики и возражения. Ровно мгновение он ощущал себя выше их. Усы торчком, взгляд горит, голова гордо поднята.
Потом он закрылся в кабинете — покурить. После болезни табак был ему противопоказан, но теперь это уже не имело никакого значения. Он нуждался в табаке. Дым создавал ширму, которой он отгораживался от реальности. В отпущенном ему остатке жизни не было смысла. Скоро придет пора уходить, умирать — неважно, каким словом это называть.
Этель знала: в мыслях он уносится далеко в прошлое, на остров своего детства, в чудесное имение Альма, где все представлялось ему вечным. Ни она, ни Жюстина не могли грезить о том же. Это была своего рода тайна сокровищ Клондайка, место, куда никому другому хода нет.
Ле-Пульдю
Этель чудилось, что она плывет в небесах. Она так любила облака! Зарывшись в песок среди дюн, она смотрела, как облака бегут над ней — быстрые, легкие, свободные. Она представляла края, где они появляются, чтобы потом добежать до нее, — безбрежную гладь океана, бесконечные волны. Облака скользили наверху, не очень высоко, — маленькие белые шарики, сталкивающиеся, слипающиеся и распадающиеся на части. Среди них были сумасшедшие, они двигались быстрее прочих, похожие на маленькие хлопья, на зонтики одуванчика, метелки тростника. Под ними медленно покачивалась земля, и от этого покачивания кружилась голова. Волны, набегавшие на пляж, рокотали, как неутомимый мотор. Большое белое с серым облако встало между Этель и солнцем; она угадала в нем очертания кита с огромной головой и совсем крошечным хвостом. Ее окружал песок дюны, он мягко обволакивал, укрывал Этель. Каждый порыв ветра пронзал ее лицо, ноги и руки миллионом мельчайших уколов. Ей казалось, что она всегда была здесь, на вершине песчаного холма, полузарытая в белый, нетронутый морем сухой песок среди колючих побегов чертополоха и красных шариков тамариска.
Ей было двенадцать, когда она впервые влюбилась — в мальчика лет пятнадцати-шестнадцати, чье имя уже забыла; помнила только, как вздрогнула, когда он приблизился к ней и поцеловал, просовывая кончик языка между ее сжатых губ. В тот день, как и теперь, по небу плыли облака; сегодня она чувствовала внутри огонь, страстное желание распахнуться навстречу небесам и спрятаться в них. Что-то неведомое, какое-то непостижимое томление.
Вместе с юношами и девушками из их компании она строила планы, каталась на велосипеде по проселочным дорогам, от деревушки к деревушке, от города к городу, ночуя на пляжах или, когда шел дождь, в амбарах. Компания состояла из молодых людей, живших неподалеку — в Ле-Пульдю и Бег-Мейле; сама Этель остановилась с родителями в пансионе мадам Лиу. В то лето она начала встречаться с Лораном Фельдом, снимавшим вместе с тетей и сестрами виллу на побережье. Вначале Этель сочла его робким, почти неуклюжим. Он краснел по пустякам. Именно в тот год Этель жила своей крепкой дружбой с Ксенией, а он был полной противоположностью ее подруги: состоятельный, серьезный, не умевший ни смеяться, ни плакать.
Потом, от встречи к встрече, возникла любовь. Не та великая любовь с ослеплением и яростью, ничего драматичного, подобного помолвке Ксении с Даниэлем Доннером — непонятному договору, согласно которому дочь русского аристократа, почти нищая эмигрантка, отдавала себя толстому, молчаливому и недоверчивому парню из семьи промышленников, предлагавшему ей взамен защищенность и буржуазный комфорт по-руански. Нет, ничего общего. Лоран Фельд был влюблен в Этель, с прошлого лета он каждую неделю отправлял ей одно-два письма, одинаково, каллиграфическим почерком надписывая конверты из плотной бумаги: