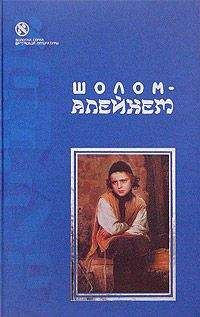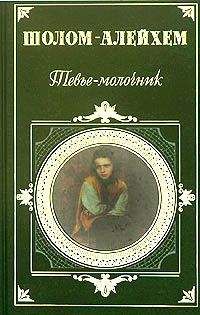Андрей Матвеев - Эротическaя Одиссея, или Необыкновенные похождения Каблукова Джона Ивановича, пережитые и описанные им самим
— Это ты думай, изверг! — заревела обессиленная сестра, представив, что через полгода, как только очередную дочку отнимут от груди, ей вновь придется быть обрюхаченной этим ненасытным покорителем влагалищ. Анфиса хорошо знала своего муженька и оказалась права, ибо ровно через полгода, как только младшенькую Каблукову действительно отняли от груди, Каблуков IX торжественно прошествовал в ее опочивальню в распахнутом на груди халате и с уже обнаженными чреслами.
— Боже! — запричитала Анфиса, глядя на вздыбленную мужнину плоть и привычно шмякнулась на спину, широко разведя ноги и приготовившись к очередному соитию. Каблуков не заставил себя долго ждать, Каблуков сбросил халат и вошел в жену под звуки громыхающего где–то там, в небесах, ангельского хора, и проделал это за ночь с Анфисой ровно шесть раз, вот только какой из этих шести оказался роковым — история умалчивает. Но Анфиса понесла, и это было главное. — Смотри, Анька, — говорил брат сестре, нежно поглаживая ее по быстро увеличивающемуся в размерах пузу, — родишь опять девку — убью! — Анфиса украдкой взревывала и ждала, когда же пройдут девять месяцев.
Но было бы странно, если бы и на этот раз она родила дочь Так что Каблукову не пришлось убивать ее: Овидий (так нарекли младенца) Борисович Каблуков, мой прапрапра (и сколько там «пра» еще?) дедушка появился на свет Божий ровно в полшестого утра в Петров день, то есть двенадцатого июля одна тысяча семьсот какого–то года, в подмосковном имении своего отца Каблуково, и был рожден от единоутробных брата и сестры (но по указу Елизаветы Петровны их надо было считать троюродными) Бориса и Анфисы Каблуковых…
— А не прерваться ли нам? — тихо спросил у Д. К. Зюзевякин, — а то смотри, дамочки уже спят. — Каблуков посмотрел и увидел, что дамочки действительно уже спят в своих шезлонгах, солнце, как это и положено, катилось к горизонту, что же касается беспутных скал Гибралтара, то они были почти по траверсу яхты.
— Прервемся, — грустно вымолвил Каблуков.
Глава десятая,
в самом начале которой Каблуков рефлексирует, потом появляется Лизавета и Джон Иванович обнаруживает, что у него больше не стоит
Через несколько дней после начала своего добровольного заточения за дощатым забором дачного кооператива «Заря коммунизма», через несколько дней после того, как Джон Иванович Каблуков собственноручно написал первую страницу своей исповеди (будем точны, на самом деле эти несколько дней были двумя неделями, то есть приехал Д. К. в дачный поселок еще в самый разгар июля, а ныне уже август, вот сегодня первое число), он как раз перечитал все натворенное и пришел в ужас. Да, да, милостивые господа, я пришел в самый настоящий ужас, ибо то, в каких тонах описываю я собственную жизнь, показалось мне возмутительным, да и потом, мне постоянно хочется задать себе вопрос: ну неужели я действительно такой, а вся моя родня таковая, как это следует из вышеизложенного? О, боги, боги, думаю я, невзначай цитируя горячо любимого всеми классика, неужели все это правда, и этот мерзкий, похотливый, вымученный тип — я? Неужели эта пародия на некое тонкое, мистически и магически ощущающее, чувствующее, воспринимающее жизнь существо — это тоже я? Вновь пора задаться тем самым вопросом, с какого и начинаются эти записки: кто я? А еще лучше всю фразу вот так, с прописных букв: КТО Я? Я, который на самом деле столь слаб и раним, столь рефлексорен, как это и положено истинному Раку, я, который так нежно любит людей, а женщин в особенности, верный друг и товарищ, спросите об этом хотя бы Фила Леонидовича Зюзевякина, да и Лизавету, конечно (вот только если сможете отыскать ее в сейшельском далеко), — ах, какая неказистая получилась фраза, но что поделать, слова бегут, слова наплывают одно на другое, как одна картина моей жизни сменяется другой, и вспоминается тоненький волоокий мальчик, такой грустный, такой романтичный, так бережно относящийся ко всему, что видит и чувствует, ах, Роксана/Розалинда, неужели ты помнишь меня отнюдь не таким, каков я на самом деле, а грубым и похотливым жеребцом? Мне хочется перечеркнуть все, что породила моя душа и что явили в мир эти воспоминания, ведь это неправда, хочется сказать мне, и совсем не таким был я когда–то, совсем не такой и сейчас, хотя что осталось от того тоненького волоокого мальчика, что так любил своих маменьку и папеньку и бесконечно долго плакал над их — вот уже сколько лет заброшенными — могилами? Да ничего, — говорит сам себе Д. К., — надо быть честным, ни одного слова лжи нет в моих воспоминаниях, и это тоже может подтвердить нежный и верный друг Фил Леонидович Зюзевякин, Ф.3., Ф. Л.З., если быть точнее в аббревиатурных сокращениях. Ведь это же исключительно тебе, дражайший мой Фил Леонидович, я обязан всей своей нынешней судьбой, ведь это же ты, досточтимый Ф.3., ворвался в мою жизнь некой смертельной молнией — какая гроза была в тот день, какие всполохи прочерчивали собою мрачное, штормовое небо, хотя все это ни что иное, как лишь аллегория того состояния души, в каком она (душа) пребывала в тот уже давний, но все еще волшебный и сладкий миг, соединивший нас навеки, не так ли, Фил Леонидович?
Так, так, отвечает мой друг, но вновь я вижу лишь тоненького волоокого мальчика, а отнюдь не этот лысеющий кусок тридцатипятилетней, уже заживо разлагающейся плоти, с мощным прибором между ног и пустым и изнахраченным сердцем, коим являюсь иногда в собственных глазах. Но что поделать, того мальчика давно нет, давно нет этого томного, романтичного (а еще лучше вот так: романтического) создания, коему боги явили столь драгоценный, магический и мистический дар. Но почему лишь констатация этого дара идет на всем протяжении моих воспоминаний, думает Д. К., лениво смотря на облака, небрежно пересекающие печальное августовское небо, одного упоминания мало, но вот как передать само существо его, точнее же говоря, сущность? Я смеюсь, ведь я прекрасно понимаю всю бестелесность дара как такового, что толку рассказывать о предвидениях и предчувствиях, о том множестве картин, что роятся в голове, помогая предвосхищать не только собственную, но и чужие жизни, да, да, Каблуков убежден в этом — не только собственную, но и чужие, читать их, как опытный криптограф читает неясный для всех шифр или же мрачные «менел, тэкел, фарес», или же какую прочую подобную галиматью, начертанную симпатическими чернилами на покорябанном временем и судьбою пергаментном листе, что именуется «Книгой судеб», в которую — зачем только упоминать, кем и когда — внесены имена всех, ныне живущих на этой земле, как, впрочем, и всех, когда–либо живших или еще не–живших, дефис придает уверенность и твердость не только звучанию, но и написанию, хотя неуправляемость предложения переходит все мыслимые границы, а потому, продолжает Каблуков…
А потому каков смысл подробно говорить о собственном даре на этих страницах, основная задача которых — передать лишь внешнюю, то бишь фабульную, канву моей жизни? Те, кому хочется, могут просто поверить в правдивость этих слов, те же, кто привык никому и ни во что не верить, пусть отложат мою исповедь и возьмутся за что–нибудь иное, например, за ХII книгу «Истории России с древнейших времен», что принадлежит перу знаменитого нашего историка Соловьева и что лежит сейчас на моем письменном столе, вместе с пятым томом сочинений не менее знаменитого историка Ключевского, а так же забавной книжкой «Любовники Екатерины», написанной некоей Екатериной Евгеньевой, по всей видимости, в самом начале двадцатых годов, да сборником гороскопов (это из него на самом деле Виктория Николаевна Анциферова списывала абзацы, посвященные мистической и таинственной натуре любого Рака), да еще лежат на нем упоминавшиеся «Молот ведьм» и «Древняя магия. Теория и практические формулы», да много что еще, пока не относящееся к судьбе самого Джона Ивановича, но кто знает, что будет завтра, тем более — после. То есть послезавтра, послепослезавтра, через неделю, через месяц, через… Пора угомониться, думает Каблуков, открывая оглавление ХII книги (том 23–24) «Истории России с древнейших времен» историка Соловьева, издание 1964 года, то есть того самого года, когда маменька Джона Ивановича еще была жива, но уже зрел тот початок кукурузы, что лишил ее — да, правильно, жизни, впрочем, послужив непосредственной причиной маменькиного проникновения на седьмое небо счастья, но кто хочет, пусть вернется к уже неоднократно упоминавшейся второй главе.
Каблуков же, все так же лениво посматривая на бессмысленные августовские облака, Каблуков, впавший в грусть и печаль, более того — в самую настоящую ипохондрию, начинает лениво выбирать главу для чтения, взгляд его останавливается на «Продолжении царствования Елисаветы Петровны. 1757 год», переходит на «Продолжение царствования Елисаветы Петровны. 1758 год», бессмысленные августовские облака набегают на нежаркое августовское солнце, грусть, печаль, меланхолия, ипохондрия крепнут, что сейчас Каблукову все его предки, что ему сейчас все его бывшие и будущие женщины, да и сам Фил Леонидович Зюзевякин, когда открытие, сделанное им, настолько потрясло его: — Боже, думает Каблуков, — а ведь каким мерзавцем могу показаться я тем юным и невинным созданиям, что невзначай вдруг прочтут эту исповедь, на хрен вот сижу и листаю дурацкий талмуд о дурацкой Елизавете (Елисавете, как писали историки XIX века), которую прекрасной ночью ублажил один из моих предков? Что мне эта самая Елизавета, она же Елисавета, если даже Лизавету, живую, теплую, уютную, я не смог, а вернее говоря, не захотел удержать, и живет сейчас она с нелюбимым мужем, пусть и являющимся принцем карликового, но богатого княжества Монако, хотя и пребывает благородная чета почти все время на никогда мною не виденных Сейшельских островах?! Романтический волоокий вьюнош вдруг просыпается в Каблукове, закрыт и отложен так и не прочитанный том соловьевской «Истории России с древнейших времен», бог с ней, давно уже истлевшей Елизаветой Петровной, похотливой и бесстыжей, как и сам ХVIII век, Каблуков впадает в еще большую печаль, он смотрит на себя в зеркало и думает. — О, боги, боги, но почему вот эта образина произошла именно из того прелестного юноши, коему был открыт весь мир? Я перестаю верить в свои магические знания, мистический дар покидает меня, мир рушится, рассыпается прямо на глазах, а ведь как хочется собрать его, и чтобы вновь в жизни появилась цель, да, то самое, ради чего и стоит жить! О, как мне грустно и плохо, думает Каблуков, заблудившись в изысканной сумятице собственных риторических фигур, как давно я не возвращался к размышлениям о том, в чем же, собственно говоря, смысл и цель жизни, а ведь даже с Витьком и Славиком, в далеком городе у моря, мы часами говорили об этом, а не только занимались мелкими хищениями из торгового порта, тискали девиц да подгадывали за бабами в бане! О, моя юность, рыдает Каблуков, о, мои детство и отрочество! Начинается дождь, мелкий августовский дождичек, после которого так хорошо пойти в лес, побродить по сырой темной траве, поискать в ней грибки–грибочки, эту русскую усладу, все эти маслята и белые, грузди и подберезовики, но Каблуков знает, что лень ему будет идти в лес и собирать там грибки–грибочки, мохнатить ногами сырую после дождя траву, предаваясь извечной русской дачной усладе. Любви хочу, думает Каблуков, настоящей, большой любви, каковой так и не встретилось до сих пор в моей жизни. Ведь даже Лизавета, несмотря на все ее прелести и тонкую возвышенную душу не стала ею, даже Роксана/Розалинда исчезла, рассыпалась где–то в пригородах Буэнос — Айреса, а я вот сижу сейчас здесь, в добровольном изгнании, и мерзко и тошно на душе… Каблукову стыдно перед самим собой, Каблуков понимает, что в его жизни что–то перестало ладиться, может, все дело в этой странной женщине, что заставила его прямо–таки бежать из города, женщине, носящей красивое имя Виктория и столь же приятное отчество Николаевна?