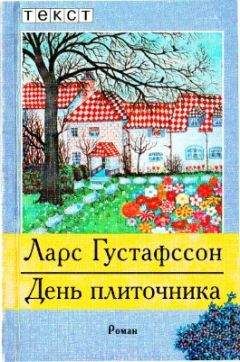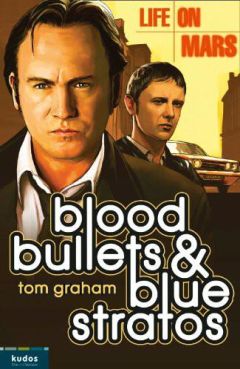Ларс Кристенсен - Посредник
– Классная у тебя мамаша.
Я открыл глаза и громко зевнул.
– Привет, Ивер. Это ты?
– Орел или решка?
– Без разницы.
– Выбирай. Иначе нельзя.
– Орел.
– Решка.
Ивер подбросил монетку, она взлетала все выше и выше, сверкая в ярком свете, на миг замерла в вышине ребром, то бишь разом орел и решка, и упала прямо к нему на ладонь. Он прихлопнул ее другой ладонью, подождал немного, снял руку и посмотрел:
– Орел.
– И что?
– Ты выиграл.
– Что?
Ивер только плечами пожал:
– Какая разница. Выиграл, и все. Вот что главное.
Я не понял Ивера Малта, да и не хотел понимать. Он прислонился плечом к флагштоку, отколупнул кусочек краски, сунул в карман.
– Почему ты не носишь ботинки? – спросил я.
– Потому!
– Почему «потому»?
– Потому что они мне не нужны.
– Всем нужны ботинки.
– Но не индейцам. Знаешь, как говорили индейцы?
Я хмыкнул.
– Они говорили, надо ходить босиком, чтобы не свалиться с шарика.
– Свалиться?
– Прямо под землей расположены магниты, верно? Иначе бы мы все попбдали.
– Я-то не упал.
– Пока что. Тебе бы тоже не помешало ходить босиком.
– Я-то не упал, – повторил я.
– Слышу.
– Тебе что, начхать на мою ногу, да?
– На какую?
– Как «на какую»? Ясное дело, на правую.
– Не вижу разницы.
Я дал ему бинокль и поднял ноги повыше:
– Теперь видишь разницу, а?
Но Ивер Малт на меня не смотрел. Смеясь, он медленно поворачивался по кругу. Наконец остановился и кивнул в сторону сортира:
– Твой велик.
– Не могу отпереть замок.
– Какой замок?
– Кодовый.
Мы пошли туда, вернее, я пошел следом за Ивером.
– Ты забыл код?
– Нет. Просто он не действует.
– Что за код?
– Мой рост.
Ивер долго смотрел на меня.
– Наверно, ты подрос, – сказал он.
– И что?
– Стал выше, верно?
– И что?
– Значит, нужен новый код. Неужели не понятно?
От Иверовой логики у меня голова пошла кругом. Убедительно и вместе с тем безумно. Конечно, надо придумать новый код. Я стал выше прошлогоднего кода. Неудивительно, что он не действует. Все теперь не так. Ивер порылся в кармане коротких штанов, что-то там нашел – гвоздь, кусок стальной проволоки или еще что, я не видел, потому что он присел на корточки спиной ко мне и мигом открыл замок. Я услышал замечательный щелчок, с каким детали встают на свои места, и ощутил глубокое удовлетворение, будто замок шлепнул по моей ладони.
– Как ты это сделал?
– Не скажу.
– Да ладно тебе!
– Не скажу. Иначе ты по гроб жизни будешь воровать велики.
– Не ерунди. Скажи. Вдруг я забуду код.
– А ты его не запирай. Какая разница.
– А вдруг сопрут?
– Кто? Я?
– Я не это имел в виду.
Ивер Малт помолчал, стоя с биноклем на шее.
– Ты закончил? – наконец спросил он.
– Что закончил?
– «Моби Дика».
– Нет еще. Но…
Он замахал руками, перебил меня:
– Ничего не говори! Ни слова, пока не прочтешь до конца! Ни слова!
Он хотел снять бинокль, и я, в свою очередь, остановил его:
– Можешь оставить себе.
– Оставить? Бинокль?
– Да. Я же сказал.
Ивер Малт медленно отпустил ремешок, как-то странно улыбнулся, чуть ли не смущенно. А потом исчез среди сосен и муравейников, за живой изгородью и под землей, за оградой, в Яме, поднялся к почтовым ящикам и двинул к Сигналу. Испарился. Сегодня я по-прежнему сомневаюсь, когда падаю духом и меня одолевают сомнения, – сомневаюсь, а было ли то лето вообще или оно существует только в моей памяти, в моем собственном мире, искривление времени и пространства, которое могу помнить один я, а больше никто.
13
Случалось, сидя на балконе под синей маркизой, мама пела, особенно по утрам, когда думала, что, кроме нее, еще никто не встал, но я-то слышал. Она и в городе пела, в остальное время года. Порой, когда я приходил из школы раньше обычного – я не прогуливал, нет, просто кто-нибудь из учителей заболевал, а подменить его было некем, – я уже внизу, у лестницы, слышал, как мама поет, и тогда стоял возле почтовых ящиков, слушал ее песни, и они наполняли меня огромным облегчением, а одновременно тревожили, вроде как внушали сомнения и печаль, хотя в ту пору я бы, конечно, не употребил именно эти слова, чтобы описать свои чувства, – эти слова предназначены исключительно для воспоминаний, однако ж я далеко не уверен, мудрее ли я сейчас, когда пишу. В ту пору я ничего не знал, зато все понимал. Теперь я все знаю, но ничего не понимаю. В общем, я стоял в прохладном подъезде и слушал, а мама даже не подозревала. Почему она не пела для других? Тетушки всегда твердили, что мама могла бы стать знаменитостью, ее голосом восхищались, а когда училась в средней школе, она пела перед разными обществами и на разных собраниях в округе. Ей всегда аплодировали стоя. Тетушки говорили, она могла бы добиться большого успеха, если бы продолжала петь. Но мама бросила пение и пела теперь, только оставаясь одна в городской квартире, то есть в первой половине дня, когда папа был в конторе, а я в школе. Квартира была ее сценой, а дачный балкон летом – оперой. Когда она бросила пение? Когда вышла за папу? Когда родился я? Мое рождение поставило крест на ее будущем? Она больше не могла петь из-за нас? Или из-за меня? Я был так требователен, это я-то, который и в дверь обычно входит тихонечко? Неужели мы с папой занимали в ее жизни столько места, что пение, ее пение и песни мало-помалу отступили: «Over the Rainbow», «Heaven Can Wait», «Cheek to Cheek», «We’ll Meet Again», «Bei mir bist du so schön», «There’s a Song in the Air», «Will You Remember», «Whistle While You Work», «Thanks for the Memory». Достаточно одних названий. Они радовали меня. Летели вдаль на глубоком искреннем дыхании. Особенно я любил «Blue Skies», «Синее небо». Слова, ритм, мелодия – все как надо, песня без сучка без задоринки, которая ни за что не цеплялась, просто лилась, песня, которая оставляла все позади, указывала вперед и, стало быть, была мне по сердцу, потому что мое сердце сделано не так. И все же: «You Can’t Stop Me», «Вы меня не остановите». А она остановилась, бросила. Сколько же песен мир проворонил? Но мгновение спустя я думаю: может, она бросила пение по своей воле? Может, ей казалось, она поет недостаточно хорошо и продолжать нет смысла? Может, она просто-напросто знала свой потолок? Может, знала, что петь лучше уже не сумеет, и потому ограничила пение кухней и балконом? Позднее я, конечно, сообразил, что угадывал здесь собственный страх – страх перед собственной полной ограниченностью и огромной посредственностью. Я помню день, когда издательство приняло мою первую книгу – сборник стихов. Мне было двадцать лет. Я поэт. Я сожгу все мосты. Они уже в огне. Всю дорогу от студгородка Согн до мамы я шел пешком, мама тогда сидела одна в квартире, где я вырос, и не пела, во всяком случае не пела, когда я взбегал по лестнице и отпирал дверь (значит, ключи у меня были по-прежнему), я нашел маму на кухне – где же еще – и протянул ей письмо. Прочти! – сказал я. Я сжигаю мосты! – сказал я, когда она читала письмо. Они уже в огне! Она вернула мне письмо. Я тобой горжусь, сказала она. Правда горжусь. В ту же секунду я, будто в этом была некая логика, вспомнил, что тем летом мне самому следовало сказать ей то же самое: что я ею горжусь. Я хоть раз спросил маму, как ей живется? Чего ей хочется? Никогда. Я сжигаю все мосты, повторил я. Они в огне. Эта неподходящая и фальшивая фраза втемяшилась мне в голову. Почему? – спросила мама. Почему? Почему! Разве ты не видишь, что здесь написано! Я принят! Я горжусь тобой, повторила мама. Только сперва закончи учебу. На это у меня нет времени! Есть, Умник. У тебя вполне достаточно времени. А писать можешь по ночам. Я громко рассмеялся, прошелся по кухне, где мама накрыла для себя – желтая чайная чашка, зеленая масленка, салфетка в серебряном кольце, черносмородинное варенье в синей вазочке, два ломтика свежего хлеба и один хрустящий хлебец, завтрак, священная трапеза домохозяйки. Ты не представляешь себе, о чем говоришь! – воскликнул я. Отчего же, представляю. Я прекрасно знаю, как важно быть свободным. Эти ее слова ошеломили меня, даже поразили. Что ты сказала? Свободным? Мама отвернулась к окну. Самые высокие деревья в Робсампарке успели вырубить, поэтому солнце заливало всю кухню, материнскую контору на неспешной домашней фабрике. Мама стояла сейчас в своей конторе на бездействующей фабрике. Она вздрогнула всем телом, я заметил эту секундную дрожь, а может, и еще более короткую, но все ее существо словно бы ослабело – так мне подумалось, – однако она тотчас выпрямилась, взяла себя в руки, собралась и одним движением обуздала себя. Была весна. Писателем я стал в мае. Свободным? Что ты имеешь в виду? Только одно: ты не должен ни от кого зависеть, сказала мама. Закончи учебу и будь независимым. Только тогда ты сможешь сделать правильный выбор. Тебе понятно, чту говорит старая глупая женщина? Да, я понимал. Понимал, что говорит старая глупая женщина. Она тогда была на десять лет моложе, чем я сейчас. Бульшую часть того, что умею, я усвоил именно там, в недрах квартирной фабрики. Быть свободным – значит довести до конца. Быть свободным – значит завершить. Накрыть тебе тоже? – спросила мама. Или у тебя нет времени, раз уж ты теперь стал писателем? Мы рассмеялись. Конечно накрывай, сказал я. Писатель проголодался.