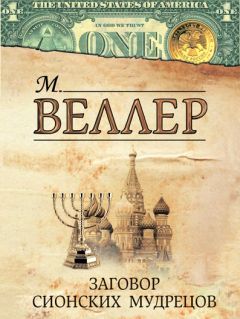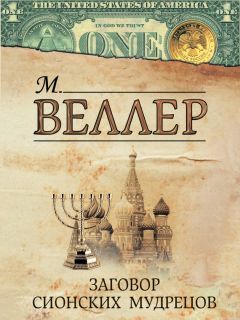Зельда Фицджеральд - Спаси меня, вальс
Алабама лежала в его объятиях, ощущая, насколько он старше нее. Она не шевелилась. Где-то в глубине корабля пел колыбельную песню мотор.
— Давно у нас не было такого переезда.
— Да уж. А давай устраивать нечто подобное каждую ночь.
— Я сочинила для тебя стихотворение.
— Прочти.
— Вот:
Почему такая я сякая?
Почему нет счастья мне?
Настоящая все ж я какая?
Почему не могу быть, как все?
Дэвид рассмеялся.
— Мне надо ответить?
— Нет.
— Мы достигли такого возраста, когда даже наши самые тайные чувства должны пройти испытание разумом.
— Очень утомительно.
— Бернард Шоу говорит, что все люди после сорока сволочи.
— А если мы к тому времени не обретем столь вожделенного статуса?
— Значит, остановимся в развитии.
— Не будем портить этот вечер.
— Пойдем отсюда?
— Ой нет, останемся — может быть, волшебство вернется.
— Вернется. Когда-нибудь.
По пути в салон они увидели леди Сильвию, которая жадно целовалась с некоей тенью за спасательной шлюпкой.
— Это ее муж? Наверно, правда насчет того, что они все еще влюблены друг в друга.
— Это матрос. Иногда мне хочется побывать в марсельском танцзале, — рассеянно проговорила Алабама.
— Зачем?
— Не знаю. Ну, хочется же иногда ромштекса.
— Я бы взбесился.
— Ты бы целовал леди Сильвию за спасательной шлюпкой.
— Никогда.
В салоне оркестр заиграл цветочный дуэт из «Мадам Баттерфляй».
Мой Дэвид любит розу,
Другому дай мимозу, —
промурлыкала Алабама.
— Вы певица? — спросил англичанин.
— Нет.
— Но вы поете.
— Потому что была рада узнать, что я, оказывается, самодостаточная личность.
— Ах, неужели? А вы себя любите!
— Очень. Мне очень нравится, как я хожу, как говорю, мне почти всё в себе нравится. Хотите, я покажу, какой я умею быть обворожительной?
— Конечно.
— Тогда пригласите меня выпить.
— Пойдемте к стойке.
Покачиваясь, Алабама двинулась в путь, имитируя походку, которой когда-то восхищалась.
— Учтите: я могу быть собой, только когда становлюсь кем-то другим, кого я наделяю замечательными качествами, существующими лишь в моем воображении.
— Я не возражаю, — сказал англичанин, который вдруг заподозрил, что его соблазняют, ведь для многих мужчин — моложе тридцати пяти — все непонятное имеет сексуальный оттенок.
— И еще предупреждаю вас, что в душе я придерживаюсь моногамии, хотя теоретически вроде бы и нет, — проговорила Алабама, заметив несколько изменившееся поведение англичанина.
— То есть?
— Дело в том, что теоретически единственное чувство, которое невозможно повторить, это ощущение новизны.
— Шутите?
— Конечно. Ни одна из моих теорий не работает.
— Вы как интересная книга.
— Я и есть книга. Чистой воды вымысел.
— Кто же придумал вас?
— Кассир Первого национального банка, чтобы возместить кое-какие ошибки, допущенные им в расчете. Понимаете, его выгнали бы, если бы он не достал деньги — любым способом, — на ходу фантазировала Алабама.
— Бедняжка.
— Не будь его, я бы навсегда осталась сама собой. Но тогда мне не удалось бы позабавить вас и доставить вам удовольствие.
— В любом случае вы доставили бы мне удовольствие.
— Почему вы так думаете?
— В душе вы человек очень искренний, — серьезно ответил он. — Мне показалось, что ваш муж обещал присоединиться к нам, — добавил он, опасаясь скомпрометировать себя.
— Мой муж наслаждается звездами за третьей спасательной шлюпкой по левому борту.
— Шутите! Откуда вам известно? Откуда вам может быть это известно?
— Оккультные способности.
— Вы ужасная обманщица.
— Ясное дело. Но я сыта по горло разговорами обо мне. Давайте теперь побеседуем о вас.
— Я должен был делать деньги в Америке.
— Ничего оригинального.
— У меня были рекомендательные письма.
— Вставьте их в свою книгу, когда решите ее написать.
— Я не писатель.
— Все, кто любит Америку, пишут книги. У вас сдадут нервы, когда закончится путешествие, и вы поймете, что лучше держать при себе кое-какие воспоминания, и поэтому вам захочется их опубликовать.
— Мне понравится писать о путешествиях. Я полюбил Нью-Йорк.
— Ну да, Нью-Йорк похож на иллюстрацию к Библии, правда?
— Вы читали Библию?
— Книгу Бытия. Обожаю то место, где Бог всем доволен. Мне нравится думать, что Бог счастлив.
— Вряд ли он счастлив.
— Вряд ли, но, думаю, кто-то должен воспринимать так происходящее. Никому другому такое не под силу, поэтому остается Бог. Мы наделили этим Бога, во всяком случае, Книга Бытия наделила.
Европейское побережье положило предел атлантическому бескрайнему простору. Нежность царила в дружелюбном, расположившемся среди полей Шербурге, где звонят колокола и стучат по камням сабо.
Нью-Йорк остался позади. Всё, что создало Алабаму и Дэвида, осталось позади. Пока для них не имело значения то, что им не придется так же ясно почувствовать биение пульса жизни, как прежде, поскольку в чужих краях мы понимаем только то, к чему привыкли с детства.
— Я сейчас заплачу! — воскликнул Дэвид. — Почему на палубе нет оркестра? Черт побери, это же самый волнующий момент, на свете нет ничего лучше! Все, что создано человеком, находится тут, перед нами, — только выбирай!
— Выбор, — откликнулась Алабама, — та самая привилегия в нашей жизни, ради которой мы страдаем.
— Великолепно! Потрясающе! Мы можем заказать вино к ланчу!
— Ах, Континент, пошли мне мечту!
— Она у тебя уже здесь, — сказал Дэвид.
— Где? В конечном итоге мечтой оказывается то место, где мы были моложе.
— Как любое другое.
— Ворчун!
— Уличный оратор! Я бы мог поиграть в бомбы в Булонском лесу.
Когда в таможне они проходили мимо леди Сильвии, она окликнула их из-за кипы великолепного белья, синего термоса, сложного электрического приспособления и двадцати четырех пар американских туфель.
— Вы присоединитесь ко мне сегодня вечером? Я покажу вам прекрасный Париж, чтобы вы могли запечатлеть его на ваших картинах.
— Нет, — ответил Дэвид.
— Бонни, — предупредила дочь Алабама, — осторожнее, попадешь под багажную тележку, она переломает тебе ножки, и они уже никогда не будут ни «chic» ни «élégante» — во Франции, как мне говорили, много подобных прекрасных слов.
На поезде они проехали розовый карнавал Нормандии, миновали искусные узоры Парижа и высокие террасы Лиона, колокольни Дижона и белую сказку Авиньона, ради того, чтобы оказаться в лимонном краю, где шелестели черные листья и где тучи мотыльков мелькали в гелиотроповых сумерках. Чтобы оказаться в Провансе, где не было надобности в зрении, пока не возникало желания посмотреть на соловья.
II
Глубоко греческая сущность Средиземноморья до сих пор превосходит нашу кичливую лихорадочную цивилизацию в покое. Многовековые руины покоятся на серых горных склонах, она засевает прахом бывших сражений пространства под оливами и кактусами. Спят античные рвы, пойманные в плен жимолостью, хрупкие маки пятнают кровавыми пятнами дороги, виноградники в горах напоминают клочья разорванного ковра. Средневековые колокола усталым баритоном возвещают праздник безвременья. На камнях неслышно цветет лаванда. В вибрирующем воздухе, пропитанном полдневным зноем, трудно что-то рассмотреть.
— Великолепно! — воскликнул Дэвид. — Оно совершенно синее, пока не присмотришься повнимательнее. Но если присмотришься, оно становится серым и розовато-лиловым, а присмотришься еще внимательнее, оно суровое и почти черное. Ну а если быть совсем точным, оно аметистовое с опаловыми вкраплениями. Что такое, Алабама?
— Я не понимаю. Подожди, подожди. — Алабама прижалась носом к покрытой мхом стене замка. — «Шанель» номер пять, — твердо заявила она, — пахнет, как твой затылок.
— Только не «Шанель»! — возразил Дэвид. — Думаю, здесь что-то более стильное. Иди сюда. Я хочу тебя сфотографировать.
— И Бонни?
— Да. Полагаю, ей пора подключаться.
— Посмотри на папу, счастливое дитя.
Девочка не сводила с матери больших недоверчивых глаз.
— Алабама, ты не могла бы немножко повернуть ее, а то у нее щеки шире лба. Если не подать ее немножко вперед, она будет похожа на вход в Акрополь.
— Ну же, Бонни, — попросила Алабама.
Обе повалились в заросли гелиотропов.
— Боже мой! Я поцарапала ей личико. У тебя нет с собой чего-нибудь дезинфицирующего?