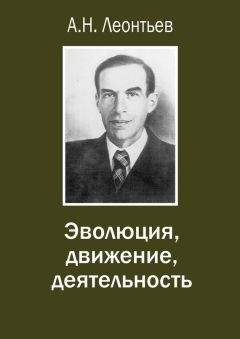Алексей Поляринов - Пейзаж с падением Икара
– Я просто хочу, чтобы мой отец обрел покой.
– И для этого я должен солгать ему, так? Забавно, я ведь только вчера читал лекцию о фальсификациях, и вот теперь…
– Послушайте, Андрей, я больше всех заинтересована в вашем успехе. Но вы сами три минуты назад признались мне, что не верите в папину теорию. Поэтому я и прошу вас об услуге.
Я долго смотрел ей в глаза.
– Скажите, вы читали «На дне» Горького?
– А какое это имеет значение?
– Да так… просто спросил, разговор поддержать.
– Давайте опустим диалог, связанный с моральными аспектами лжи, – она пальцем подтолкнула денежный цилиндр в мою сторону. – Я как-нибудь переживу это. Сейчас у меня другая цель: я хочу, чтобы он успокоился. И я вижу лишь один способ добиться этого – дать ему утешение. Пусть и ненастоящее, зато оно погасит его одержимость – для меня это гораздо важнее. Решайте. У вас десять секунд, – под давлением ее длинного розового ногтя денежный цилиндр упал на бок и покатился в мою сторону.
Я накрыл его ладонью и сказал:
– Хорошо. Называйте меня «Лука».
***
Когда дверь за Анной захлопнулась, я тут же набрал номер ее отца.
– Ал-ло?
– Вечер добрый. У меня только что состоялась необычная беседа с вашей дочерью.
– С Анной? Она еще у вас?
– Ушла две минуты назад. Передала деньги и ушла.
– Какие д-деньги?
– Даже не знаю, как объяснить. Я бы назвал их «тридцатью серебряниками», но в этой пачке их явно больше тридцати, да и к серебру они отношения не имеют.
– К чему вы клоните?
– А что здесь непонятного? Ваша дочь только что заплатила мне за фальсификацию вашего генеалогического древа. И я согласился. Извините. Слишком уж велик был соблазн. У меня с деньгами сложные отношения – я, знаете ли, деньгозависимый, можно даже сказать «деньгоголик».
Он долго молчал.
– А зачем в-вы мне об этом раск-к-казываете?
– А вы догадайтесь.
Снова пауза – и его улыбающийся голос:
– Я вп-п-печатлен. Как вы п-п-поняли, что это п-п-проверка?
– А я и не понял. Сначала. Но потом вспомнил, что наше знакомство началось с тройной лжи.
Он засмеялся (и даже смех у него был заикающийся).
– Что ж, Ан-н-ндрей А-н-ндреич, поздрав-вляю. Вы – п-первый, кто догадался. Вы с-с-сдали экзамен.
– Спасибо, Лжедмитрий. Я польщен. Честное слово. Скажите мне только одно – ну, так, из чистого любопытства – сколько еще идиотских «экзаменов» мне предстоит выдержать?
– Пусть это будет сюрприз. Вы любите сюрпризы?
– Нет. У меня сюрпризофобия. Страшная болезнь.
– Тем хуже для в-в-вас. Что ж, приятного в-в-вам в-вечера. «Тридцать серебряников» м-можете не в-в-возвращать.
– И в мыслях не было.
– И еще одно.
– Да?
– Не н-называйте м-меня Лжедмитрием. Н-никогда.
***
Ночью я не мог уснуть, и, чтобы как-то отвлечься, стал разгребать коробки, привезенные Анной: тяжелые стопки пыльных желтых листов расположились на столе. Среди архивного хлама обнаружился и альбом репродукций Ликеева. Я открыл его на первой попавшейся странице и увидел – надо же! – «Крестный ход». Эта картина всегда нравилась мне больше других – возможно, потому, что ее физическое воплощение было давно уничтожено, и она существовала лишь как идея (Платон, наверно, был бы в восторге!). В 1917 году, узнав от матери, что его любимой картиной топили камин, Ликеев впал в депрессию. Говорят, он несколько дней ни с кем не разговаривал. Вообще, сожжение «Крестного хода» считается переломным моментом в творчестве мастера. Он долго отказывался верить в сожжение – он убедил себя в том, что на самом деле «Крестный ход» украли, и развернул масштабное расследование, пытаясь отыскать полотно. Эпопея с поиском утраченной картины продолжалась долго – и лишь спустя семнадцать лет Ликееву удалось разорвать порочный круг: он нашел в себе силы написать «Крестный ход» заново, пересоздать свою лучшую картину. Естественно, новый «Ход» отличался от старого («ветхозаветного», – шутил мастер), – композиция изменилась, ведь и автор за столь долгий срок стал другим человеком. Новая версия картины среди искусствоведов носит название «Пересозданный Крестный ход».
(В своих «Лекциях об искусстве» Рескин выражает одну очень интересную мысль – он размышляет над гравюрой из своей коллекции, копией картины, оригинал которой был сожжен: «Я хочу, - пишет он, - чтобы вы пожалели об этой потере и… помнили следующее: то, что остается у нас от произведений искусства, относится к тому, чем мы могли бы обладать, если бы были бережливы, [так же,] как эта гравюра относится к оригиналу».)
Вообще, пересоздание (иливосстановление) – ключевое слово, если мы говорим о наследии Ликеева. Большая часть его картин позднего периода строится именно на этом приеме: «Возвращение Платона в Академию», «Реставрация Москвы после сожжения 1812 года», «Пересоздание Савла» (не «Обращение Савла», как у Караваджо или Брейгеля, а именно «пересоздание» – это важно).
Однако вернемся к нашей картине: на первый взгляд композиция здесь не отличается оригинальностью: многие русские художники обращались к этой теме – наиболее выразительным я считаю полотно Ильи Ефимовича Репина («Крестный ход в Курской губернии»).
Но Ликеев не любил просто отражать реальность – как любой великий художник он всегда наполнял ее смыслом, и его «Крестный ход» – именно такая, осмысленная, картина. Мы видим торжественное шествие – люди идут в сторону храма, купола которого видны вдалеке. Казалось бы, ничего необычного, но при внимательном изучении в глаза бросаются нестыковки: во-первых, среди идущих нет ни одного человека в рясе, во-вторых – ни одного креста. Возникает вопрос: какой же это крестный ход тогда?
Дмитрий Ликеев был противоречивым человеком: он верил в Бога, но не в церковь. Церковную атрибутику – кресты, рясы, ладан и прочее – он считал «ненужным украшательством».
Лица людей на холсте – это тема для отдельного исследования: здесь собраны все виды эмоций – от скуки до фанатизма; здесь есть даже несколько полицейских, внимательно следящих за толпой – они рассредоточены по картине, их пятеро – на первой (ветхозаветной) версии, и семеро – на второй, пересозданной. Зачем они там – неясно: одни толкователи считают, что полицейские присланы сюда, чтобы подавлять возможные беспорядки; другие видят в них карикатуру на представителей церкви (намек на это можно углядеть в том, как сложены их руки; кроме того – у них у всех бороды, что довольно странно для полицейских).
Но самое поразительное открытие зритель совершит, если внимательно посмотрит на ноги людей. Босые или обутые – не суть. Дело в том, что ноги одного из шествующих не касаются земли. Да-да, он летит! Гений Ликеева проявился именно здесь: эффект полета почти неразличим на фоне ног других людей, но стоит вам увидеть разницу – и вы не сможете отвести взгляда.
И это еще не все: ноги летящего человека являются центром композиции: все деревья, ветки, камни, крыши домов расположены под такими углами, что если расчертить холст на секторы, то окажется, что вся картина словно втягивается в то место, где расположен летящий человек.
«Кто он?» – спрашивали у Ликеева и слышали в ответ: «Икар». Шутил ли мастер? Или намекал на что-то? Вообще в полунамеках заключается, пожалуй, весь пафос его творчества (ох, как же он ненавидел слово «творчество»! Однажды даже ударил журналиста, злоупотреблявшего этим словцом: «Нет у меня никакого «тво-о-орчества»! То, что я делаю – это изматывающая, скучная, монотонная работа». – «Тогда зачем же вы этим занимаетесь?» – спросил журналист. - «Потому что это единственное, что я умею делать хорошо», – ответил мастер).
Все работы Ликеева – как китайские шкатулки с секретом. «Ты просто не туда смотришь», – его любимая присказка. Будучи главным идеологом борьбы с коммунистическим режимом, он рисовал казалось бы простые антисоветские плакаты и все равно среди красок прятал свои мысли.
Увы, ближе к старости его мастерство все чаще давало сбои – после перенесенного в 59 лет инсульта палитра его картин изменилась: он стал использовать более приглушенные тона, и лица людей получались неестественно темными. Сегодня уже доказано, что эта излишняя «угрюмость» вовсе не была техническим приемом или результатом депрессии, всему виной ухудшение зрения, тританопия – редчайший вид дальтонизма: отсутствие цветовых ощущений в сине-фиолетовой области спектра: все теплые тона казались ему оттенками розового, а холодные – оттенками голубого. Анализ палитры картин мастера показал, что он страдал этим недугом с детства, но после инсульта тританопия обострилась до предела. Он даже стал перерабатывать некоторые свои полотна, потому что они представлялись ему излишне розовыми и оттого пошлыми. К счастью, друзья вовремя заметили изменения и не позволили ему испортить свои шедевры.