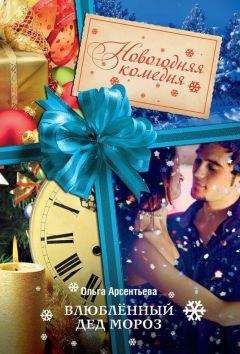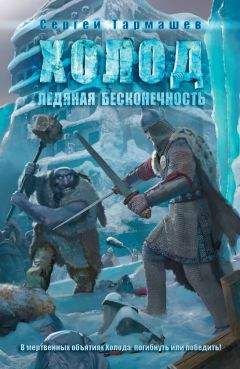Курилов Семен - Ханидо и Халерха
И Синявин примолк. Он оглянулся еще раз.
— Хм. Чудно…
— У меня есть враги. Они всякие сплетни пускают, — сказал Куриль. — А что шаман Кака на Христа плевал, то это было. Только он пьяница. Видит, что новая вера бьет его по рукам — вот, пьяный, и одурел. Но он уже два дня кается. При всем народе хотел себе живот распороть, только опять пьяный был — качался, все видели. И никакой смуты не было. Что, о пьяной болтовне исправнику доносить? Сгоряча исправник застрелил бы его — а на кого народ пальцем бы показал? На меня. Нет, так править я не хочу. Потом шаман не юкагир — чукча. А это — вражда. Чукчи креститься не стали бы… и так с ними плохо.
— Н-да-а, — пропел Синявин. — Не зря я поехал. Вблизи все по-другому. Ты меня успокоил. Очень боялся я…
— Чего боялся? Что шаманы смуту начнут? Га, они опоздали. И мало осталось их. За ними народ не пойдет. Тихо у нас.
— Нет, я другого боялся. Думал, что ты ради крещения тундры решил все претерпеть, а потом…
— А потом поднять голову? Рога выставить? — досказал Куриль. — Нет, какие у нас рога — солдат нет, врагов царя нет. Только оленьи рога… Но я не понимаю тебя: сам обвинил, что я прикрываю шаманство и на этом хочу выиграть во вред власти и церкви, а теперь сказал, что боялся за меня и потому сам поддерживать ехал?
— Афанасий Ильич… — со вздохом, как-то загадочно проговорил Синявин — и ничего не добавил.
А Куриль и не стал ждать пояснений. Он стегнул каргинов и тоже решил помолчать. Ему далеко не все было известно, но главное, как показалось ему, он теперь понимал. Очень плохо, что русские насторожились и хотят придержать, припугнуть северян. Но к плохому примешалось хорошее: священник Синявин определенно не соглашается с этим. Почему? Кто знает. Может, больно стало за несчастных людей, вымирающих год от года, может, решил предотвратить еще худшую жизнь, а может, хочет как-то прославиться — получить белую шапку, уехать в Якутск, а исправник ему мешает. Синявин об этом не скажет.
И перепугавшийся Куриль приободрился: большое дело уже началось, и у него есть поддержка.
Они очень долго ехали молча, пока Синявину стало невмоготу: ошметки снега, летящие из-под копыт, попадали ему в лицо, и он прятал голову, уткнувшись лбом Курилю в шею, от сидения боком спину его ломило.
— Как бы мне пересесть, — попросил он.
— Нельзя. Гнать левой рукой не могу. Немного поедем потише.
Так, потихоньку, они и выехали не то на гребень огромной заструги, не то на перелом тундры. С этого чуть заметного возвышения дорога пошла вроде бы вниз. Теперь надо бы ехать быстрей, но священник Синявин, заметив длиннейший, бесконечный ряд жердей с поперечными крестовинами, разжал руки, освободился от Куриля и сказал:
— Останови. Что это здесь такое? Сроду не видел.
— Путь богу Христу, — натянул вожжи Куриль. Он сразу снял рукавицы, и от его рук пошел пар.
— Да, постарался, — сказал Синявин, вставая. — Даже перестарался…
Догор, — обратился он по-якутски к каюру кибитки, в которой сидели дьячок с Чайгуургином, — поезжай потихоньку вперед. Ох, Курилов, Курилов! Православной церкви указал путь. В тебя просто влюбиться можно.
— Как дела в Среднеколымске? — спросил Куриль, пропустив мимо ушей похвалу.
— Что Среднеколымск! — вздохнул Синявин. Он проводил взглядом сурово замкнутого Косчэ-Ханидо, глядя при этом лишь на его руки в больших рукавицах. — Река Колыма только отражает небо. А небо мутное.
— Опять из Якутска пришла бумага? И опять с плохими вестями?
— С плохими. На войне-то все хорошо, говорят. А беспокойство у нас большое.
— Ты можешь рассказать мне всю правду?
— Рассказать можно. Тебе бы кстати-то знать. Да ведь ты человек непонятный. Скажи, Курилов, сколько раз ты собираешься жить?
— Я?.. Юкагиры верят, что можно два раза жить. Но у меня нет кровных детей, значит, и жизнь у меня одна.
— Одна! И у меня тоже… А не боишься ли ты и одной не дожить?
Губы Куриля сразу сжались так, что стали напоминать маленький лук. Он отвернулся от бородатого гостя и пошел поправлять на оленях сбрую. А когда вернулся, продолжил:
— Мои предки, говорят, пошли от медведя и женщины. Я эрбэчкан. Потому такой видом и нравом. Я только не сосу палец. Другие сосут и потом отмораживают. У меня все пальцы целы. За жизнь ухватился крепко.
— Нет. Ты просто в толк не можешь взять очень многого, — загорячился Синявин, нервно выдирая из бороды сосульки. — Ты со всех сторон под ударом.
Ты знаешь, сколько ссыльных у нас и еще на этапах сколько? А кто эти ссыльные — знаешь? Думаешь, это грабители, которые могут отобрать твой табун? Это ученые, ученые люди. Перед иным из них наш Друскин… пень, прости мою душу грешную. А вожди бунтарей пишут в книгах: богачи должны быть уничтожены. У-ни-чтожены! Приезжай — я тебе прочитаю. Думаешь, в ледяную пустыню их ни за что посылают? Здесь, в тундре, ты идешь вторым за исправником. Это — одно. А с другой стороны, вот что. Четвертого дня Друскин спросил меня: "А не заменить ли нам голову юкагиров?" Ты понимаешь? Я же не понимаю, как ты живешь, как ты не видишь опасностей!
Куриль уставился в голубые глаза попа и, словно в отчаянии, с надрывом сказал:
— А что делать, Синявин! Мы вымираем. Не я, так другой, третий начнет сопротивляться. Собака старая и та помирать не хочет. А если бунтари умные — как ты говоришь, — то почему они меня не поймут?
Синявин с такой силой вздохнул, что это было похоже не на вздох, а на хрипение мученика.
ГЛАВА 21
Пайпэткэ поседела. Поседела среди белого дня, от счастья.
Она шла к Халерхе, когда в стойбище ворвались первые вестовые. Крики "Едут! Едут!" заставили ее остановиться, но потом она побежала, чуть не падая: изо всех жилищ выскакивали люди, надевая на ходу варежки, подпоясываясь, что-то крича и устремляясь в одну сторону — к выезду в тундру возле жилищ богачей. Пайпэткэ влетела в тордох подруги, обняла ее, как мужчина, — сильно и горячо — и вдруг ослабла, плюхнулась на пол, на шкуру у очага.
— Ой, да какая же ты счастливая, Халерха! — запела она, откинувшись назад и блаженно раскачиваясь. — Какая ты счастливая! Ум потерять можно от счастья…
— А что там случилось? — Халерха по привычке теребила кончик косы, и руки у нее задрожали.
— Едут. Посланец бога, великий Куриль и твой Ханидо! Одевайся. Жених твой вместе с посланцем бога едет! Неужели это в жизни бывает? Ну что ты стоишь?! А я-то… а я-то какая была несчастная! Как я выходила замуж?
Господи! За урода, за грязного старика. Тайком от людей… Господи! — Пайпэткэ сжала руками голову и заголосила по-старушечьи — тоненько и негромко.