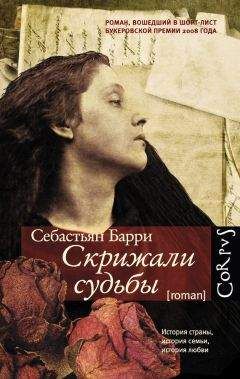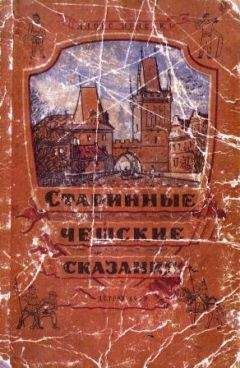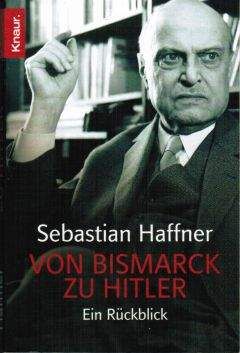Время старого бога - Барри Себастьян
Она кивнула и притихла, и от этой тишины у Тома заложило уши, как от перегрузки на взлете.
— Если уж говорить, так сейчас, — продолжала Джун, — потому что вежливые эти лягушатники ни бельмеса не понимают. Бедняжки! Несчастные создания…
Тут она вдруг прыснула. Да, прыснула! Сидевшие рядом пары встрепенулись. Смех — дело хорошее.
— И все-таки они прелесть, — сказала она. — И здесь, в гостинице, мне нравится. — И вновь подавилась от смеха. — Боже, Том, — продолжала она, — просто чудо, что мы с тобой оба живы.
— Чудо, — отозвался Том, и рука его пробралась к ее руке, покоившейся на плетеном подлокотнике.
И когда она осторожно высвободила руку, это было не в обиду ему. Она не могла продолжать, если они друг друга касались. Том понял.
— Можешь хоть сейчас от меня избавиться, если хочешь. — Она снова хохотнула.
Том был растерян, но в то же время как рыба в воде. Он не тонул. И она тоже — во всяком случае, тогда.
— Он меня насиловал, Том, мне было всего шесть лет, представь. — Говорила она так тихо, что Том еле разобрал. Она опасалась, что кто-то из гостей знает английский, притом что по-английски не понимал даже официант. — Может быть, лучше тебе от меня избавиться. Монашки говорили, сама виновата. Постоянно, пока мне не исполнилось двенадцать. Можешь представить? Двенадцать — это уже взрослая девочка, Том. Раз в несколько дней. Приходил “за поцелуями”, так он это называл. “Я за поцелуями, Джун”, — так он говорил. За поцелуями, мать его! Совал в меня свою штуковину, словно раскаленной кочергой внутри ворочал — знаешь, как это больно, когда ты еще маленькая? Я была ростом с ноготок, а он высоченный, как жираф. С мохнатым брюхом, а из пасти разило перегаром. Дырявил меня, как стальным прутом. Шестилетку. Том, Том, прости меня. Хочу, чтобы ты понял. Хочу, чтобы ты знал, без малейшего сомнения. Чтобы не было между нами недосказанности. Чтобы ты не заблуждался на мой счет, не принимал меня за другую, Том. А монашки если знали, то молчали. А если не знали, значит, были слепоглухонемые. Потому что за все годы у него таких, как я, было с десяток, точно не знаю сколько. И они всегда его обхаживали, отец Тедди, то да се, души в нем не чаяли, пекли для него по три торта сразу, “благодарственные тортики”, и он, бывало, угощал меня кусочком сливочного, моего любимого, и я на него набрасывалась, как зверек, как волчонок, а однажды он меня порвал там, сзади, и пришел доктор, сказал, гм-гм, да-да, у нее колит — четко, чтобы монашка поняла, — бедная кроха, это очень больно, я выпишу мазь, а если не заживет, наложим швы в больнице, у нее трещина заднего прохода, сестра… да, сестра Бренда там была, пока он, черт подери, во мне копался, и она заохала-заахала, руками машет, как крыльями, мол, ужас-ужас, как же такое стряслось, доктор? — а он: у малышей, знаете ли, все хрупкое, легко рвется — села, должно быть, на сучок, а причин колита никто на самом деле не знает, даже знаменитые врачи из Бостона, где проводили исследование. Неужели, доктор, неужели, говорит сестра Бренда, а руки как бабочки порхают, и лицо круглое, как луна, а от рясы пахнет карболовым мылом. А теперь, а теперь, Том… люби меня такую, если сможешь.
Но в призывах любить ее Том не нуждался, он ее уже любил и любить не перестал. И ничто бы его не заставило ее разлюбить — ни слова, ни картины ужаса, ни мысли о насилии и боли. Он все ясно сознавал, видел мрачным опытным взглядом. Он понимал, как мал ребенок в шесть лет, да и в двенадцать. Он представил ее, подростка, с этим потным душегубом-священником. Душегубом. Сколько душ погасило, как свечи, это море похоти. Океан похоти обрушивается на крохотный огонек, и никогда больше не озарить ему лик земли, не воссиять ему вновь, не раскрыться ярким цветком навстречу новому дню. Он меркнет, глохнет. Он сам видел — видел, как гасли глаза у мальчишек, которых насиловали Братья. У детей, принесенных на алтарь их похоти. Навсегда. Он сам видел, всему был свидетелем, когда еще даже не знал слов, которыми можно это описать. Глаза их гасли, как фитильки свечей. Навек. И как только она, его Джун, смогла пронести сквозь это свою душу? И очутиться здесь, среди супружеских пар со стажем, на полутемной веранде, где хмурый официант зажигает огни, и лицо ее сияет новым светом, словно на утренней заре, и волосы ее, прекрасные “мышиные” волосы, золотые, словно треплет ветер, даже в полный штиль. Точеный нос, спокойные глаза. Лицо светлей луны. И ни слезинки, как будто все слезы она давным-давно выплакала. Слезы ребенка. Сухое, невозмутимое лицо его жены.
Том пришел в себя, стоя посреди кухни с полотенцем в одной руке и с вытертой досуха чашкой Винни в другой.
Глава
7
На другой день он протянул свой чудо-проездной контролеру на станции Долки, но тот покачал головой. Небритый рыжеватый детина с хвостиком на затылке и залысинами на лбу.
— Рановато вы, — сказал он. — Бесплатный проезд у нас с одиннадцати, вы уж простите.
— Значит, куплю билет.
— Это можно, билет всегда можно купить.
Том в то утро оделся “тщательно” — насколько мог. Пальто немного скрашивало потрепанный костюм. Том был не щеголь, но выглядел вполне прилично.
— Мне все равно на работу, — сказал Том с наигранной беспечностью, протягивая мелочь.
— Да? — переспросил контролер.
Первый поезд, до утреннего часа пик еще далеко. Скоро у этого малого зарябит в глазах от множества лиц, от протянутых рук. Вечером дома он опустит ноги в ванну с эпсомской солью, как полицейский после смены. Из нагрудного кармана у него торчал транзисторный приемник, японская штучка.
— Слушали матч? — поинтересовался Том.
— Субботний, “Ливерпуль”? — внезапно оживился контролер — постаревший мальчишка, ей-богу.
— Да-да, “Ливерпуль”.
Винни за них болела с шести лет. Малышка на розовом пластмассовом стульчике в Динсгрейндже смотрела матчи команды с далекого севера Англии. Том тоже следил за новостями из любви к ней, а сам втайне болел за “Манчестер Юнайтед”. И ни словом не обмолвился о том Винни.
— О-о, “Лидс” они разнесли! — сказал контролер с хищным восторгом. И оскалился, а хвостик на затылке задрожал, точно рыжий зверек.
Том зашел в вагон, а минут через пять начался дождь. У него был с собой пластиковый чехол для полицейской фуражки, из Нью-Йорка, который он надевал иногда и без фуражки. Это ему Джозеф прислал из аэропорта Кеннеди, когда летел в Нью-Мексико. Чехол смахивал на вытащенную из воды медузу. Том нащупал его в кармане пальто. Еще не хватало явиться на Харкорт-стрит мокрой курицей. Форму ирландской полиции раньше почему-то шили из материи, похожей на войлок — если ходишь по домам, опрашивая свидетелей, скоро она впитает в себя килограммы дождевой воды. Идешь и хлюпаешь. А черные ботинки, купленные на Мальборо-стрит — на коробке было написано “непромокаемые”. К каждой паре прилагалась баночка смазки в подарок. Да проще было ноги промокашкой обмотать. Да они и сделаны были, наверное, из промокашки, если не полностью, то частично. Ничто в мире не соответствует описанию. В том числе и правда. И полиция. И страна.
Старая железнодорожная линия почти нигде не удалялась от берега. Самые живописные места уже остались позади — таинственные Уэксфордские бухточки, залив Киллини-Бей, где красавцы-лодочники сдают лодки напрокат. Между Грейстонсом и Бреем Изамбард Кингдом Брюнель проложил в скале вдоль берега туннель, но, как выяснилось, слишком близко к морю. Пришлось ему поменять план и строить новый, на пятьдесят метров дальше. Давно, еще в семидесятых, в одном из заброшенных туннелей нашли труп. В гулком зале, похожем на пещерный храм — вотчине зайцев, бакланов и чаек, где в стенах вырублены были углубления под динамит, с виду совсем свежие, будто сделаны вчера, и ветер звенел под сводами эоловой арфой. И тело юноши в выходном костюме. Убийцу так и не нашли, если это было убийство, а парень был местный, из Грейстонса, жарил чипсы в портовой закусочной. Говорили, его бросила девушка, вот он и покончил с собой. Но на теле не было следов насилия. Он не отравился, не повесился, не вскрыл вены. Лежал, окутанный тайной, и тайна его пережила. У Тома до сих пор перед глазами картина: он, Билли Друри и еще ребята, эксперты, все в куртках, в суровой задумчивости склонились над телом. Молодой красивый парень — был, и нет. Его погрузили на траулер во время прилива, и он лежал на голых досках мертвым дельфином. Нераскрытое убийство — несчастье для следователя. Все равно что когда на строителя обрушивается дом. ДНК-анализы в те времена, конечно, еще не делали.