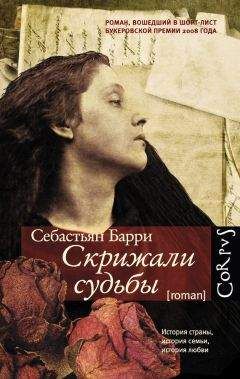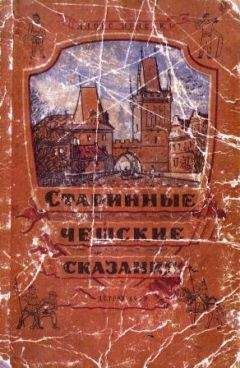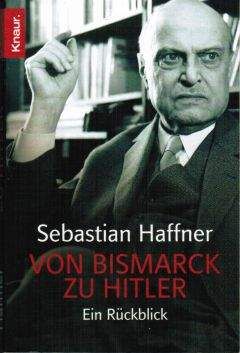Время старого бога - Барри Себастьян
В Шербуре, в гостинице, она ему все рассказала. Потом они долго-долго бродили вдоль моря, просто гуляли под солнцем Нормандии и всем восхищались. Диковинный был там причал, полностью отдельный от берега — у Джун это в голове не укладывалось. А в остальном все как в Рослэре — всюду пляжи, всюду лодки. Он думал, что не выдержит, умрет от счастья. У всего в жизни есть срок годности, разве нет? Так говорили ребята из отдела, кто прямо, кто намеками, когда подходили к нему с мрачными поздравлениями на Харкорт-стрит. Дескать, пришел конец твоей свободе. Да какой там конец, начало! Эта великолепная женщина выбрала его, в том-то и штука. В том, что она его любит, и он ее любит. Что есть любовь человеческая? Кто ее разберет! Но она была их сокровищем, их богатством, даже когда дошло до мрачных откровений. Ему казалось, они все это спрятали в самый дальний уголок сознания и можно жить дальше. Насилие, чертовы святоши, монашки, невзгоды, несчастья, жестокость, беды.
— Я уже замужем за тобой, — начала она, — а еще тебе всей правды не рассказала.
Они сидели под навесом на затейливом балконе гостиницы с рядом потертых кресел; все прочие кресла занимали пожилые пары, как видно, сохранившие любовь спустя годы. Это внушало надежду. Пол выложен был узорной плиткой, и стояла тишина, и дул ночной бриз, и поблескивали высокие бокалы, и наглый парижский официант держался так, будто снизошел до них и до Нормандии, ну и ладно, главное, самбуку он им принес, и неплохую. Том, у которого до сих пор был праздник на душе, и оделся по-праздничному: твидовый пиджак от Кевина и Хаулина, галстук, подарок Билли. Не хиппово, что тут скажешь. А Джун была в футболке и джинсах — настоящая девчонка шестидесятых, хоть какую революцию могла бы провернуть! Вьетнам — ее война, ну и пусть она ни разу не была в Штатах. Пять, шесть, семь, откройте жемчужные врата. “Кантри Джо энд зе Фиш” [26]. Уиии, мы все умрем. Хоть сейчас на антивоенный митинг, без преувеличения. И вот она сидела с напряженными плечами, самбуку пила как кока-колу, вместе с огнем. Над пылающими бокалами вился прозрачный дымок, овевая молчаливые пары, поднимаясь к закатному солнцу, слепящему шару из расплавленного золота, и все ахнули, захлопали в ладоши: Oh là là. Sacré cœur. С этого все и началось. Джун спросила у него, что означает sacré cœur, а он ответил: кажется, “пресвятое сердце”. Да, отозвалась она, так и думала. Орден Пресвятого сердца, мои монашки, добавила она. Мои монашки. Как будто у нее их целое стадо, пасутся себе в монашьих лугах. Это они, объяснила она, сестры Пресвятого сердца. Те, что воспитали ее после смерти матери. То есть, Джун ничего не знает. Может быть, она не умерла, мало ли что монашки сказали. Дьяволово отродье. Был ли у нее отец? У многих девочек были отцы, но никогда не приходили. Зато эти девочки хотя бы знали, что отцы у них есть. А Джун не знала. Но когда подросла, то увидела, как попадают туда дети — поодиночке, через суд, — и предположила, что и с ней случилось то же. В шесть лет, говорила она Тому, но это неправда, ей не исполнилось тогда и года. Так ей сказала одна из монашек, что подобрее — та, на чью помощь Джун надеялась. Но та оказалась не такой уж доброй. Ах, Том, сказала Джун, Том, как же мне было одиноко! Можешь представить? Комната на сто девчонок, а еще младенцы, младенцы, столько, что тебе и не снилось. Девочки их растили, сами. Монашек больше заботило, чтобы все полы были вымыты — девчонки их скребли, стоя на коленях — длинный ряд девчонок, полсотни, с большими тряпками в руках, такими огромными, что руки в них утопали, будто камушки в сугробе. А монашки их погоняли, палками и ремнями. Но самое страшное было не это, и даже не одиночество — казалось бы, разве можно быть одинокой среди такой толпы, но нет, можно. Никто тебя по щеке не погладит, на колени не посадит — и вот что, Том, когда у нас с тобой будут дети, мы их будем баловать, заласкаем, они у нас будут в любви купаться, черт подери, — ну так вот, никто тебя не обнимет, не поцелует. Разве что этот подонок-священник.
— Что за священник? — спросил Том как можно тише и ласковей.
Джун могла спокойно ему о таком рассказать. Его историю она уже знала, он давным-давно ей все выложил. Слова у него лились через край, выплескивались, словно самбука из бокала, словно вода из ведерка в ручье в сказке про Ухти-Тухти, которую он читал вслух Винни и Джо тысячи раз, когда те были маленькие и любили сказки на ночь. Слово они с Джун сдержали, дети у них купались в любви, с этим не поспоришь. Но к рассказу Джун он, можно сказать, не был готов. Происходило это сразу после заката, когда странная тьма надвинулась на Шербур, словно черное воинство с запада — будто кто-то черной краской решил замалевать весь пейзаж — мазок за мазком, и нет волнореза, набережной, пустоши между морем и домами, и вот на черном фоне зажегся огонек, далеко-далеко, в домике на берегу, словно свеча в церкви, пятнышко света в подступившей тьме.
— Что за священник? — повторил Том.
— Звали его отец Таддеус, а монашки называли отец Тедди, он приходил каждое утро служить мессу, — ответила Джун. — Нас поднимали в пять утра, вели умываться, и даже дверь в детскую оставляли нараспашку, чтобы и младенцы внимали слову Божьему, и это считалось большим праздником — ну, понимаешь, когда ты уже взрослая, воспитанная и тебя в первый раз вместе со старшими девчонками пускают к мессе. Отец Тедди. Молодой, все девчонки его считали красавцем. Уж наверняка красивее, чем мистер Гилл, садовник — у того все лицо было в буграх, точно ежевичина (“Господи Боже мой!” — невольно воскликнул Том, сам не зная почему), и чем другой, мистер Гинэм, “бедняга-протестант”, называли его монашки — представь себе, какие жалостливые! — он делал всю поденную работу. А отец Тедди был ласковый, ласковее любой монашки, даже тех из них, что подобрее — на колени тебя посадит, нянчится с тобой, мол, какие у тебя чудные кудряшки, да какая ты хорошенькая, и было это в приемной, ну, знаешь, в маленькой такой монастырской приемной — когда тебя туда пускали, это было как подарок, там начинался большой мир, о котором я ничего не знала, меня ведь привезли совсем крохой и до шести лет я нигде не бывала — ну так вот, Том, мне шесть лет, и я очутилась в этой чертовой приемной, там, где чертов отец Тедди “баловал своих девочек”, так это называли монашки, Боже ты мой (одна из пожилых дам, в широкополой шляпе, подалась вперед, посмотрела в их сторону), и такой он был вежливый, добрый, ласковый, не то что все остальные, и я на него смотрела снизу вверх, и ничего не понимала, и так было хорошо, так хорошо, и Том, Том…
Он вдруг удивился, куда пропало солнце — разумеется, он понимал, что Земля вращается, Земля кружится, и пришло время тьмы, потому что огромная, необъятная, необозримая наша планета — послушное дитя необычайного, титанического Солнца и… Но солнце из древних легенд — это совсем иное солнце. Там солнце тонет в океане, гаснет под водой, словно свеча, и кто зажжет его снова, когда оно встанет из волн на востоке, кто поднесет к нему спичку, милосердный живительный огонек? Тем временем Джун была точно в боевой стойке, готовая биться, защищаться, хоть и сидела в кресле — левая нога выставлена вперед, плечи напряжены.
— Том, ты от меня отречешься, если я тебе расскажу?
— Что? — Он не сразу понял старомодное слово.
Отречься? Да никогда!
— Никогда, — ответил он и, слава Богу, слово сдержал, слава Богу, моя Джун, любимая!
И когда вышла на свет история, рассказывала ее Джун тихим голосом, но в нем чувствовалась сила, сила, добытая ею самой. Возможно, эту силу она черпала из их любви.
— Не рассказывай дальше, если не хочешь, — сказал Том. — Не надо, родная.
Он думал, что не выдержит. Его жена, совсем еще ребенок, много лет назад, в монастырской приемной на коленях священника. Он вспомнил и свое детство, Брата, запах мочи, жестокие побои — палкой по спине, по ногам, каждую ночь, тысячу лет, вечность, и он еще легко отделался по сравнению с другими — паренька из Лимерика, по всей вероятности, убили: тот сбежал, его привела назад охрана, а потом его держали на улице зимой, зимой, неделями, и неизвестно, что с ним стало — просто исчез однажды утром, будто его и не было; бедный Марти, — говорили они между собой, а что с ним случилось, не знали. А Том всего-навсего мочил постель, мочил, черт подери, постель, и за это его били, а еще Брэди, парень старше на два года, любимчик Брата, полез к Тому с ножиком, пырнул с десяток раз в ляжку — неглубокие ранки, словно булавочные уколы, — а его дружки держали Тома и гоготали, мол, гляньте на этого придурка — словом, Том все это держал в голове во время рассказа Джун, и Джун понимала.