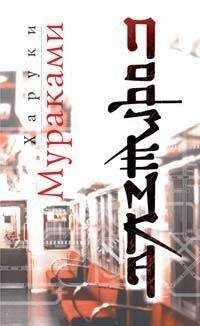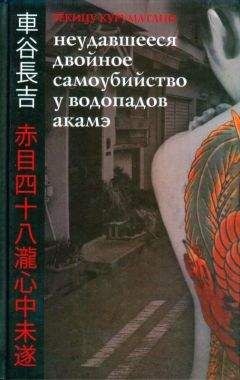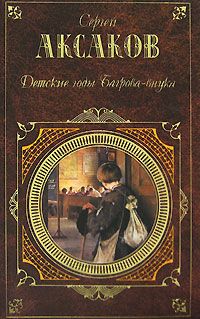Харуки Мураками - Трилогия Крысы. Мировой бестселлер в одном томе
– Жаль, горчицы не оказалось…
– Первый класс!
Завернувшись в одеяло и уплетая сэндвичи, мы смотрели с ней по телевизору старый фильм, "Мост на реке Квай" [17].
В самом конце, когда мост взорвали, она издала стон.
– Зачем же они его строили, старались? – и она ткнула пальцем в Алека Гиннесса, остолбеневшего в своем недоумении.
– Это был для них вопрос чести.
– Хм, – с набитым ртом она на некоторое время задумалась о человеческой чести. Так было всегда – что там делалось у нее в голове, я даже вообразить не мог.
– Слушай, а ты меня любишь?
– Конечно.
– И жениться хочешь?
– Что, прямо сейчас?
– Когда-нибудь… Попозже.
– Хочу, конечно.
– Ты мне такого не говорил, пока я сама не спросила.
– Ну, забыл сказать…
– А детей ты сколько хочешь?
– Троих.
– Мальчиков или девочек?
– Двух девочек и мальчика.
Она проглотила кофе с остатками сэндвича и внимательно всмотрелась в мое лицо.
– Врун!
Так она сказала.
Хотя это было и не совсем верно. Покривил душой я только в одном.
35
Зайдя в маленький ресторан недалеко от порта и слегка перекусив, мы заказали "Блади Мери" и бурбон.
– Хочешь узнать правду? – спросила она.
– А вот в прошлом году я анатомировал корову, – сказал я.
– И что?
– Вскрыл ей живот. В желудке оказался ком травы. Я сложил эту траву в полиэтиленовый пакет, принес домой и вывалил на стол. И потом, всякий раз, когда случалась неприятность, смотрел на этот травяной ком и думал: "И зачем это, интересно, корова снова и снова пережевывает вот эту жалкую, противную массу?"
Она усмехнулась, поджала губы и посмотрела на меня.
– Поняла. Ничего не буду говорить.
Я кивнул.
– Только одну вещь хочу спросить. Можно?
– Давай.
– Почему люди умирают?
– Потому что идет эволюция. У отдельных особей нет энергии, которая ей нужна, поэтому она осуществляется через смену поколений. Хотя это не более, чем одна из теорий.
– Она что, и сейчас идет, эта эволюция?
– Понемножку.
– А почему она идет?
– Тут тоже много разных мнений. С определенностью можно утверждать лишь одно: эволюционирует сам Космос. Имеет ли здесь место какая-то направленность или стремление к чему-то – вопрос отдельный. Космос эволюционирует, а мы – не более, чем часть этого процесса.
Я отставил виски, закурил и добавил:
– А откуда для этого берется энергия, никто не знает.
– Никто?
– Никто.
Она разглядывала белую скатерть, гоняя кончиком пальца лед в стакане.
– А вот я умру, пройдет сто лет – и никто про меня не вспомнит.
– Скорее всего, – сказал я.
* * *Выйдя из ресторана, мы окунулись в удивительно ясные сумерки и побрели вдоль тихих портовых складов. Она шла рядом со мной, я мог различить запах ее волос. Ветер, перебиравший листья ив, мягко напоминал о кончающемся лете. Пройдя немного, она взяла мою руку в свою – в ту, на которой было пять пальцев.
– Когда тебе обратно в Токио?
– На той неделе. Экзамен…
Молчание.
– Зимой я приеду снова. На рождество. У меня день рождения 24 декабря.
Она кивнула, будто думая о чем-то своем. Потом спросила:
– Ты Козерог?
– Да. А ты?
– Я тоже. 10 января.
– Знак почему-то не самый благоприятный. Иисус Христос тоже Козерог.
– Ага…
Она перехватила мою руку поудобнее.
– Кажется, я буду без тебя скучать.
– Но ведь мы еще встретимся…
Она не отвечала.
Склады тянулись один другого ветше; между кирпичами прилепился скользкий темно-зеленый мох. Высокие, темные окна закрывали массивные решетки; на покрытых ржавчиной дверях висели таблички торговых фирм. Вдруг сильно запахло морем, и склады кончились. Кончилась и ивовая аллея – казалось, деревья выпали, как больные зубы. Мы перешли железнодорожную колею, поросшую травой, уселись на каменных ступенях заброшенного мола и стали смотреть на море.
Перед нами горела огнями доков верфь. От нее отходило неказистое греческое судно – разгруженное, с поднявшейся ватерлинией. Белую краску на его борту изъел красной ржавчиной морской ветер, а бока обросли ракушками, как струпьями. Довольно долго мы глядели на море, небо и корабли, не роняя ни слова. Вечерний ветер с моря колыхал траву, а сумерки медленно превращались в бледную ночь. Над доками замигали звезды.
После долгого молчания она сжала левую руку в кулак, и несколько раз нервно ударила ей по ладони правой. Потом подавленно уставилась на покрасневшую ладонь.
– Всех ненавижу, – произнесла она одиноко.
– И меня?
– Извини, – она смутилась, взяла себя в руки и положила ладонь обратно на колено. – Ты не такой.
– Не настолько, да?
Она кивнула со слабым подобием улыбки и мелко дрожащими руками поднесла огонь к сигарете. Дым хотел окутать ее волосы, но его унес ветер и развеял в темноте.
– Когда я сижу одна, то слышу разных людей, которые со мной заговаривают. Одних я знаю, других нет… Отец, мать, школьные учителя – разные люди. Я кивнул.
– И говорят всякую гадость. Хотим, чтобы ты умерла, и так далее. Или вообще грязь какую-нибудь…
– Какую?
– Не хочу говорить.
Сделав две затяжки, она погасила сигарету кожаной сандалией и легонько надавила на глаза кончиками пальцев.
– Как ты думаешь, я больна?
– Даже не знаю, – покачал я в растерянности головой. – Но если это беспокоит, то лучше врачу показаться.
– Да ладно. Не обращай внимания.
Она закурила вторую сигарету. Потом попыталась рассмеяться, но смех у нее вышел неважный.
– Я тебе первому про это рассказала.
Я взял ее за руку. Рука продолжала мелко дрожать. Между пальцами выступили капли холодного пота.
– А врать-то очень не хотелось на самом деле…
– Я понимаю.
Мы снова замолчали и тихо сидели под звук мелких волн, ударявшихся о мол. Так долго сидели, что и не вспомнить, сколько.
Когда я заметил, что она плачет, то провел пальцем по ее мокрой от слез щеке и обнял за плечи.
Я давно уже не помнил, как пахнет лето. Я соскучился по запаху морской воды и далеким паровым свисткам, по прикосновению девичьей кожи и лимонному аромату волос, по дуновению сумеречного ветра и робким надеждам – соскучился по летнему сну. Однако теперь все было иначе, чем раньше. Все отличия маленькие – а в целом непоправимые. Совсем как калька, навсегда соскользнувшая с оригинала.