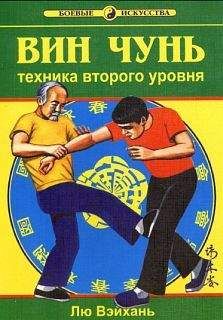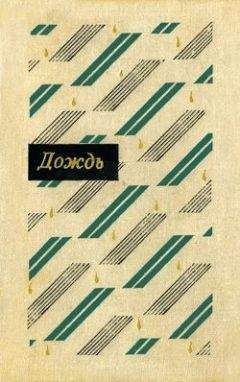Виталий Павлов - День чудес
Надо было срочно что-то говорить, иначе все могло закончиться, не успев начаться. Но в моей голове, кроме затертого до дыр «Девушка, с вами можно познакомиться?», ничего не было. Я стоял неподвижно в двух шагах от нее, ожидая троллейбуса. Она сказала: «Отомри!», что же тогда я? Появился троллейбус. Конечно, она вошла. А на что я надеялся? Что она подойдет?
— Почему это вы стоите здесь, а не в музее мадам Тюссо?
— Да вот, знаете, отпуск. Решил домой приехать…
— А с вами можно познакомиться? Так интересно! Ох, ох! Давайте встретимся под часами…
Осторожно, двери закрываются! Двери? Так что же я стою?! Когда ее лицо проезжало мимо, она улыбнулась. Независимо. А теперь что?
Ре минор, в ритме вальса «А любовь рядом была…» Идиот!
— Такси! Поезжайте за тем троллейбусом, но не очень близко, пожалуйста.
Пусть думает, что я оперативник на задании. Только вот прическа неуставная.
Я расплатился, как только увидел, что она вышла независимой походкой из троллейбуса. Что там думал этот таксист, меня больше не волновало. Мы гуляли по городу. Глазели на витрины, пили кофе в стекляшке, заглядывали через спины, «что дают», опоздали в кино.
Только я шел на десять метров сзади, только я смотрел на витрины с другой стороны улицы, только я вспоминал вкус кофе, когда она пила его в стекляшке, как застывшая бабочка в кусочке янтаря. Уже стемнело, когда мы подошли к ее дому. Я смотрел со двора, как она поднимается по лестнице. На третьем этаже хлопнула дверь. Я поднялся. Мне надо было угадать, в какой из трех квартир скрывалась она.
Я угадал сразу.
В справочной мне дали ключ от ее квартиры. Шесть цифр. Трубку подняла она.
— Я слушаю?
— Это я, — и по тому, как она замолчала, я понял, что больше ничего говорить не надо.
Потом мы встретились. Мы проделали весь путь первого дня, но только уже вместе. Мы удлинили его насколько это было возможно.
— Я вас сразу заметила.
— И превратили меня в камень.
— А мне показалось, что в воск.
Весенняя осень все-таки самое прекрасное время года.
— А чем вы занимаетесь?
— Разное, знаете… Держусь за черное, стучу по дереву, плюю три раза через левое плечо.
— А вы случайно не маг?
— Случайно да, если вы имеете в виду магнитофон…
Еще мне нравится, когда от падающих листьев город пустеет.
— А давайте зайдем в «минутку». Сфотографируемся, потом разорвем пополам и это будет для пароля. Когда мы еще встретимся с вами через много лет.
— Почему через много?
— Не знаю. Давайте? — Там открыто!
— Давайте…
— Знаете, я плохо получилась. Давайте разорвем.
— С удовольствием!
— Наверное, у них объектив какой-то дефективный. Обычно я хорошо получаюсь… А давайте пойдем в кино, я тогда ведь опоздала. — Давайте.
Я не помню, о чем фильм. Наверное, в этом кинотеатре дефективный кинопроектор.
— А давайте я угадаю, кто вы.
— Давайте.
— Вы врач. Хирург. Угадала?
— Может быть…
— Хорошо! Тогда скажите, кто ваш друг?
— Вы.
Ее звали Вита. Она не в восторге от своего имени. Я тоже, если откровенно.
— Давайте, я пока не буду вас никак называть. Пока мы не придумаем имя, которое нам понравится?
— Давайте!
— Хотите, я покажу дом в котором родился?
— Хочу.
— Он мне тогда казался очень большим. Его скоро снесут, и на земле не останется места, где я появился на свет.
— А может быть, вы скоро прославитесь, и тогда этот дом будет охраняться законом.
— Может быть, но вероятней будет обратное. Его скорее снесут, когда узнают, кто в нем родился.
— Чем же вы так провинились?
Я стал кабацким музыкантом.
Нет, я не сказал ей этого. Мне казалось, что это будет одним из тех взрывов, которые разбросают нас в разные стороны. Еще я боялся, что кто-то третий узнает о наших отношениях. Я скрывал ее ото всех, я скрывал нас в самое неподходящее для этого время года, когда город пустел от опадающих листьев.
— Хотите я вам скажу, что я люблю больше всего?
— Хочу. — Я люблю… Я люблю рисовать, весну, люблю море, его запах, люблю лес, помните «прозрачный»? Люблю прозрачный лес, как будто смотришь сквозь поцарапанное стекло, люблю жить… Просто так… дышать… очень полюбила, особенно в последнее время… Вот видите, как много я люблю! А вы?
— Я мог бы точно сказать, чего не люблю.
Фотографироваться.
Не люблю когда тихо и вдруг самолет. Мне становится не, по себе. Никому не говорю об этом.
Не люблю слово горжетка. Просто так Не произносил ни разу.
И последнее.
Не люблю себя. С каждым днем все больше и больше. Надо что-то делать. Но что?
— Почему вы молчите? Неужели вы ничего и никого не любите?
— Люблю.
— Не хотите говорить?… Не говорите, я не обижусь. Или все-таки скажете, что вы любите?
— Вас…
Глаза очень близко и губы…
— Надо говорить тебя…
Говорю. Тебя. Тебя. Тебя…
И вот я, совершенно другой, ставлю ящик с колонкой на грязный пол автобуса, сажусь у окна. Гитару ставлю рядом. Мне хочется побыть одному.
Нам двоим хочется побыть одному.
До вчерашнего вечера я и не думал, что нас двое. Тот первый мне действительно в последнее время начал действовать на нервы. А второй, вчерашний? Я его не знал никогда.
Мы уезжаем в Черногорск. Там на центральной улице нас ждет ресторан «Девятый вал». Мы уже все погрузили. Нет, мы уезжаем не насовсем. От нашего города это всего в сорока километрах. Даже на автобусе час туда и час обратно. Но это значит, что я увижу ее только через неделю. В свой выходной день. Я сказал, что уезжаю по делам. Она будет ждать. Мы так и не придумали, как ее мне называть. Ничего, сейчас времени у меня будет предостаточно. Я буду играть, петь, репетировать, думать, как ее называть.
Вита. Вит. Вета. Вика.
Нет, это совершенно другое имя…
— Что-то Вовчик наш в последнее время засмурнел. Может, влюбился? — это Гешка выдал свою реплику с последнего сиденья.
Все вопросительно смотрят на меня. Интересно, увидят они, что нас двое?
— Да, правда, чего это ты? — это уже Илик.
Значит, увидели. Значит, это мне не показалось.
Значит, действительно появился второй.
— Слышь, Вовчик, как, спрашивается, добираться будем? После одиннадцати на автобусе вряд ли уедем, а четырех мужиков ночью никто не возьмет, — Генка упорно не хочет оставить меня в покое.
Ладно. Потом как-нибудь я разберусь с собой, когда мешать не будут.
— Так что вы предлагаете?
— Мы-то ничего, как всегда, а Илик предлагает сброситься и купить машину. Что-нибудь типа «Запорожца», а? Что скажешь?
— Это идея, — говорю я, — номер один, — и засыпаю.
«Девятый вал» ждал нас. У фальшивых колонн выстроились официантки.
— Приехали? — спросили они хором, криво улыбаясь.
Мы начали выгружать аппаратуру.
— Значится, приехали? — очевидно не очень доверяя своим глазам, спросила нас пожилая женщина в белой куртке, сидящая у пальмы, разминая папиросу.
Сцена маленькая и грязная. Непривычно после огромных залов Домов культуры устанавливать аппаратуру на свином пятачке.
— Значит приехали? — спросил нас директор — обладатель круглой и лысой, как плафон, головы на тонком проводе шеи.
Мы не возражали.
Его хитрые глаза так и бегали, казалось, они могли найти себе места на этом светящемся лице.
— Так, хлопцы, на крайний случай чего, хочу предупредить, у меня на это место желающих до (тут он сказал слово, выражающее, по его мнению, точное количество желающих работать на этом месте) и добавил:
— Теперь, значит, чтобы проверить ваш уровень, сыграйте мне «Лебединую верность».
Обязанности у нас были четко распределены. Я отвечал за простые песни, Кырла пел рок и подпевал, где только возможно, а шлягеры и песни народов и народностей лучше всех исполнял Геша. Делал это с душой.
Геша закончил петь, я взглянул на нашего директора и понял, ему стало стыдно за свою лексику.
Кухарки, вывалившие во время пения из-за перегородки, удовлетворенно улыбаясь, удалились, и пар повалил, и запахло чем-то жаренообщепитовским.
Черногорцы признали нас сразу. Нам не давали отдохнуть. Какие-то летчики сельхозавиации, потом Эдик Шаронян — профессия неизвестна, снова летчики, снова Эдик и снова летчики, и снова Шаронян, и неизвестно кто. Причем, как мы поняли, для большинства было неважно, что мы играем, их больше интересовала первая часть — объявление.
Для летчиков сельхозавиации с борта самолета пятнадцать-полсотни-шесть звучит песня. Для Эдика Шароняна — летчика-вертикальщика, для Эдика Шароняна — капитана дальнего плавания. От Эдика Шароняна — для всего зала. Всего хорошего! В такой день…
Только потом мы узнали, что летчики — никакие не летчики, и на самолетах никогда не летали, потому что живут всю жизнь здесь и грузят в товарные вагоны желтый камень, поэтому лица у них коричневые от пыли и солнца, а пальцы на руках шершавые, набухшие и потрескавшиеся, как почки на ветках каштана весной.