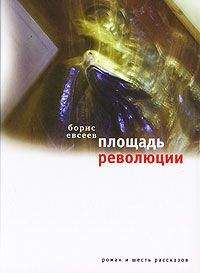Момо Капор - Книга жалоб. Часть 1
Она взяла его на руки и поцеловала в розовый нос. Белая ободранная муфта, прижимаясь к ее голому телу, часто помаргивала красными глазками.
— Он, бедняжка, слепой, — пояснила она.
— Как, вы еще не разделись? — спросил Полянский, входя в гостиную якобы за каким-то словарём, который ему вдруг потребовался.
Теперь был в бедуинском балахоне, доходившем до пола. Наши глаза встретились. Он понял, что я угадал его затаенный страх и хочу помочь ему остаться в роли человека широких воззрений, который выше такой чепухи, как ревность, и при этом не потерять свою голую игрушку. С того мимолетного взгляда двадцать лет назад и зародилась наша взаимная симпатия.
— К сожалению, мне пора… — сказал я, целуя руку даме.
— Будем рады, если вы нас еще навестите… — сказал Полянский. — Mа douce, montre le сhеmin а mon cher аmi![14]
Я пропустил её вперед себя, силясь оторвать взгляд от двух восхитительных подвижных ямочек над круглым задиком.
Когда я вышел на слегка подгибающихся ногах на улицу, они стояли у окна и с серьезными минами смотрели мне вслед.
Должен признаться, что в ту ночь я послушался совета маэстро и призвал на помощь память и воображение, «не переносящее конкретности форм». Я солгал ему. Я занимался этим не только в своих писаниях.
22
Вначале его никто не замечал. Только когда он стал приходить каждый день и утром и вечером, на него обратили внимание. То ли из-за больших оттопыренных ушей, то ли из-за того, что он, делая вид, будто читает, с величайшим вниманием прислушивался ко всему, что говорилось в лавке, мы прозвали его Дежурное Ухо. Со временем эта тощая потасканная личность неопределённого возраста, с большими печальными глазами, похожая на хронического холостяка, стала для нас чем-то вроде козла отпущения. Всё, что нам хотелось высказать властям, мы, не имея возможности обратиться непосредственно по адресу, говорили ему, Дежурному Уху, в надежде, что он всё передаст кому следует. Он выслушивал нас понуро, словно мы взваливаем непосильное бремя на его и так отягощенные тяжким грузом плечи. Я так привык к нему, что мне начинало его недоставать, стоило ему несколько дней не появиться в лавке; наши разговоры тогда теряли ту прелесть, которую им придавало ощущение опасности, — нам казалось, что родное государство махнуло на нас рукой, что мы ему больше неинтересны.
Дежурное Ухо вёл себя очень скромно, можно даже сказать, застенчиво. Отказывался от предложенного кофе или сигареты и только после долгих уговоров соглашался выпить с нами. Сидел ссутулившись в одном из четырёх полупродавленных кресел, словно извиняясь, что занимает место кого-то более достойного, всегда с раскрытой книгой на коленях. Больше всего он любил слушать писателей и умел это делать как никто другой, с каким-то почти благоговейным вниманием. Никудышные собеседники, созданные для монолога, они наконец обрели в Дежурном Ухе благодарного слушателя, который им никогда не противоречил, а лишь с пониманием кивал головой и время от времени цокал языком, выражая свое изумление очередным открытием. В те часы, когда магазин пустел, Дежурное Ухо погружался в чтение, предпочитая спорные произведения, вокруг которых поднималось много шума и крика. Мне кажется, со временем он стал настоящим специалистом по так называемой диссидентской литературе и, хотя никогда ни о чём не высказывал своего мнения, иногда, не в силах удержать в себе накопленные знания, исправлял кого-нибудь, перевравшего цитату, имя или дату. И сразу вслед за этим, устыдившись своей дерзости перед умными, образованными людьми, Дежурное Ухо прикусывал язык, заметно покраснев. Он увязывался за нами, когда мы отправлялись перекусить или выпить в кафану или ресторанчик поблизости, но никогда ничего не ел (видимо, из-за стеснённости в средствах), а пил исключительно фруктовые соки. Через него постоянные посетители магазина передавали друг другу записки, он присматривал за их вещами, знал, кто с кем и кто против кого, что кто о ком думает, кто с кем назначает якобы случайные встречи в лавке, у кого любовь рождается, а у кого умирает, какие писатели настаивают, чтобы их книги выставляли в витрине, а каким это всё равно, был он тих, надёжен и молчалив, как памятник.
А может, мы ошибались в отношении его тайного ремесла? Может, брали грех на душу, подозревая этого милого, стеснительного человека, который просто любил наше общество, отдавая нам своё время и внимание и ничего не требуя взамен? Вдруг лавка заменяла ему несуществующий дом, а мы — утраченную семью? Сколько мы спорили об этом, в который раз решая спросить наконец прямо, как его зовут и чем он, собственно, занимается. Дело в том, что, представляясь, Дежурное Ухо всегда бурчал нечто неразборчивое, что-то вроде Ссс-ич, и всем, как правило, было неудобно переспрашивать — не дай Бог, покажешься навязчивым. Наконец как-то под пьяную руку я, обнаглев, отозвал его в подсобку. Он вошёл туда через некоторое время после меня с печально-смиренным видом человека, которого всегда, на каждом шагу ждут одни неприятности.
— Я хочу тебя кое о чём попросить… — сказал я. — У меня тут проблема с продлением загранпаспорта. Надо ехать, а срок истек. Ты не можешь это устроить?
Он страдальчески посмотрел на меня увлажнившимися глазами и спросил:
— Почему именно я?
— Ну… Я подумал, — пробормотал я, запинаясь, — может, у тебя там есть знакомые…
— Ладно, давай паспорт! — сказал он. — Один мой земляк там работает…
На следующий день меня ждал продлённый паспорт.
Вскоре это стало своего рода игрой. Дежурное Ухо нам выправлял новые удостоверения личности, свидетельства о гражданстве, освобождал нас от уплаты штрафов за стоянку в неположенном месте, улаживал дела с судебными исполнителями, доставал всевозможные удостоверения и справки, давал юридические советы.
Потом вдруг перестал приходить. Как сквозь землю провалился. Мы о нем уже почти забыли, когда он снова появился через полгода еще сильнее побледневший и осунувшийся, с отросшей шевелюрой и, к нашему изумлению, в потертых джинсах. Под мышкой у него была толстая голубая папка.
— Дай это кому-нибудь посмотреть! — застенчиво протянул мне рукопись, усаживаясь на свое прежнее место. — Не для того чтоб напечатали, просто хочу услышать чье-то мнение.
Так в который раз подтвердилось, что литература сильнее любого другого ремесла. Сколько генералов и полководцев оставили военное поприще, отдавшись писательской страсти, сколько великих мужей, правивших государствами и делавших историю, посвятило себя писанию мемуаров; есть ли хоть один бывший посол, который не хранит в своем письменном столе хотя бы начало объемистых «Воспоминаний и встреч», какой политзаключенный при первой же возможности не обратил годы своего заточения в страницы бестселлера? Я часто спрашиваю себя, почему они добровольно отказываются от своей полнокровной, деятельной жизни, от власти ради литературной химеры, почему ищут убежища в искусстве, этом единственном утешении для нас, слабых и мягкотелых, у которых никогда не было ничего иного, более реального? Если б я мог жить как хотел, я бы никогда не написал ни слова и, по всей вероятности, ничего бы не читал! Какой дурак станет утыкать нос в страницы, описывающие чужую жизнь, когда его собственная куда интересней и увлекательней? Однако же они, люди, властвующие над этим миром, уверенно распоряжающиеся и своими и чужими жизнями, не могут довольствоваться тем, что имеют; наверное, в какой-то момент на них вдруг пахнёт гнилью грядущего забвения, и они начинают осознавать бренность власти; тогда-то и возникает паническое стремление оставить после себя хоть какой-то след помимо мавзолеев и монументов (кому-кому, а им-то хорошо известна их недолговечность — сколько чужих памятников они сами повергли в прах!); и что же? — упираясь руками и ногами, они пытаются пролезть из бельэтажа в жалкую каморку под лестницей, отведённую литературе, проталкиваясь между фантазёрами, сумасшедшими, скептиками, фанатиками, авантюристами, пасынками судьбы, которых талант обрёк на это бесплодное ремесло. Мы смотрим на них, широко раскрыв глаза, не понимая, чего ищут они в литературе (в которой, как правило, чувствуют себя по-любительски неуверенно), когда им судьбой назначено быть благополучными министрами, дипломатами, судьями, торговцами или полицейскими, одним словом — почтенными гражданами, которым всяк уступает дорогу? И что самое удивительное, все те черты, которые им были присущи на государственной службе, вся та надменность, невероятная уверенность в себе и непогрешимости своих суждений, черно-белое видение мира без тени каких-либо сомнений, всё это перекочевывает в их книги.
Не был исключением в этом смысле и Дежурное Ухо. Разумеется, собиравшаяся в лавке братия, с которой он целых два года не спускал глаз, несёт наибольшую ответственность за его прискорбную метаморфозу. Общаясь с нами и с книгами, он просто не мог уберечься от литературной заразы; он сказал, что уволился оттуда, где работал, и решил всерьёз заняться писательством.