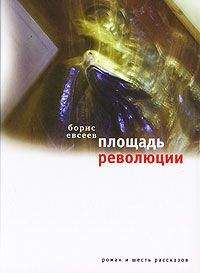Момо Капор - Книга жалоб. Часть 1
одна манерная молодая особа в очках, со строгим выражением лица. Эта сидит и читает самые заумные сочинения, как то: истории религии и философии, эссе о герметизме и исследования по семиотике… Время от времени поднимает взгляд от книги и с укоризной смотрит на нас. Даже её молчание вызывает в нас смутное чувство какой-то вины. Уходит она, поджав губы, не прощаясь;
некто, обожающий обсуждать содержание телепередач. Заходит в лавку и с порога вопрошает: «Смотрели вчера эту срамоту?»;
некто, годами встречающийся здесь со своей любовницей. В лавке они никогда не разговаривают. Листают книги каждый в своём углу, делая вид, что незнакомы, а потом по отдельности выходят. Сперва он, затем она;
один книготорговец из провинции, желающий в своем городке создать нечто подобное. Он приходит по субботам, когда лавка только открывается, приглядывается и принюхивается, а потом обычно спрашивает меня: «А в чём же тут всё-таки фокус?»;
и ещё объявился один будущий книготорговец из Нью-Йорка, прослышавший обо мне и пожелавший пригласить меня к себе на работу. Как-то раздался телефонный звонок:
— Хелооо? Это bookshop «Балканы»?
— Что? — переспрашиваю я раздражённо.
— Oh, shit![6]— поправляется мой незнакомый собеседник. — Это книжный магазин «Балканы»?
— Да!
— Я бы хотел поговорить с этим типом, который там у вас работает. Куда-то запропастилась газета, которая о нём писала! Fuck it![7] Как его… Gуцrgу Lukacz?
— Он умер.
— Не валяй дурака, приятель! Я звоню из Нью-Йорка…
— Да ну? И как там у вас? Все в порядке?
Хотя голос моего невидимого собеседника звучал так, будто его разложили на составные части, пропустили через электронику, потом снова сложили и усилили, я всё же думал, что меня разыгрывают. Звонивший из-за океана почувствовал что ему не верят.
— Take it easy mас![8] — сказал он ласково, словно ребенку, видимо боясь, что я в любую минуту могу положить трубку. — Меня зовут George Ророviсh, — произнес он по буквам. — Мой телефон в Нью-Йорке: 645-87-96. Рlеаsе, позвони мне сам за мой счет! О'кей?
Я позвонил на станцию и продиктовал номер.
Через пять минут из трубки снова послышался тот же голос:
— Thank уоu![9] — вздохнул он с облегчением. — Я боялся, что ты не позвонишь… Могу я теперь поговорить с мистером, как его… Лукачем?
— Это я!
— Oh, mу God![10] — сказал он удовлетворённо. — Я так и знал, что это ты!
После того как он подробно расспросил меня о погоде, своих старых знакомых и кафанах, в которые когда-то захаживал, после того как мне пришлось найти в газете и прочитать положение в первой и второй нашей футбольной лиге, George Ророviсh наконец перешел к делу: предложил мне работу в Нью-Йорке, в первом югославском книжном магазине, который вскоре намеревался открыть. Признаться, я был взволнован и польщён. Из трубки до меня доносилось могучее дыхание океана, по другую сторону которого сквозь звездно-полосатую дымку зеленел обетованный континент — мечта всех мальчишек из провинции. Передо мной в одно мгновение пронеслись картины ожидавшей меня новой жизни, но я почувствовал, что у меня на это уже нет сил. Джордж решил, что я колеблюсь из-за денег.
— Послушай, вопрос, конечно, не в западном духе, но всё же, сколько ты там получаешь?
Я сказал.
— В неделю?
— Нет, в месяц.
— Bullshit![11]— воскликнул он. — Да здесь столько получают черномазые, когда ни черта не делают, в качестве пособия по безработице! Приезжай, будешь деньги лопатой грести! Я читал про тебя в газете. Мне нужен как раз такой человек, как ты…
Я отказался со всей вежливостью, на какую был способен.
— О'кей! — сказал он после получасового разговора, наверняка влетевшего ему в копеечку. — Если передумаешь, мой телефон у тебя есть! Тебе достаточно позвонить, и я сразу высылаю билет на самолет. Fuck it! Было бы здорово, если б мы стали компаньонами!
У меня готова пошла кругом. Вот, значит, как делают дела там у них, в Америке!
С тех пор Джордж звонил мне из Нью-Йорка чуть не каждую неделю, чтобы я рассказывал ему новости и зачитывал результаты футбольных матчей. Я диктовал ему списки книг, которые он должен заказать дли своего книжного магазина, и давал советы. Каждый наш разговор кончался тем же предложением выслать мне билет на самолет. Иногда, с пьяных глаз, оставшись в лавке один, я звонил ему сам за казенный счет. У меня в жизни было немало и друзей, и подруг, но никто никогда так не радовался моему звонку, как Джордж, который, едва услышав мой голос, испускал оглушительное ковбойское «Ого-го!», как будто ему звонит родной брат. От него я перенял привычку говорить «о'кей!».
О'кей. В лавку заходило много чудного народа.
Заходил некто, не дающий никому слова сказать;
и некто, угощающий всех витаминами;
и одна особа, убеждающая нас, что парижские книжные магазины гораздо лучше нашего, но в наших условиях и это сойдет;
некто, постоянно назначающий торжественные представления книг и пластинок, а затем отменяющий их в последний момент;
некто, кого вечно все разыскивают, чтобы стребовать долги, а он всем обещает оставить для них деньги в нашей лавке;
некто, обожающий играть на нашем старом пианино марки «Петрофф». Терзая какой-нибудь злосчастный шедевр, он время от времени бросает на нас негодующие взгляды, возмущённый тем, что мы и не думаем прерывать разговор;
некто, беспрерывно нас фотографирующий, уверяя при этом, что когда-нибудь этим фотографиям цены не будет;
один писатель, предпочитающий давать интервью исключительно в нашей лавке и всегда Уводящий куда-то молоденьких журналисток;
некто, остающийся иногда ночевать под столом в подсобке, потому Что далеко живет;
и еще разные другие…
21
Самый примечательный среди них без сомнения, Борис Полянский, один из последних живых сербских сюрреалистов, друг Арагона, Бретона, Тцары и Дали, живой укор своим белградским ровесникам-сюрреалистам, постоянно напоминающий им своим вызывающим поведением, что они, став добропорядочными гражданами, академиками, профессорами университетов и дипломатами, получая высокие пенсии, премии и удостаиваясь упоминания в учебниках, предали бунтарское движение, которому клялись в верности до гроба. Когда старый Полянский в кожаной куртке лётчика и белом свитере заходит в магазин и занимает своё излюбленное место у окна, наша скромная лавка вдруг как бы попадает в историю современной литературы; над тем местом, где он сидит, уже так и видится мраморная доска со словами: «ЗДЕСЬ БЫВАЛ БОРИС ПОЛЯНСКИЙ. ПАМЯТНАЯ ДОСКА УСТАНОВЛЕНА В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». Экстравагантный в свои семьдесят с лишним лет, как и в пору расцвета сюрреализма, вечный белградский enfant terrible[12], бисексуальный, циничный, рождённый богатым, он умрет бедняком. Чудовищно образованный. Изысканный и сдержанный в какие-то моменты, сумасбродный временами, чаще всего непредсказуемый. Бывший гражданин мира, не имея теперь денег на путешествия, стоически переносит нищету. Художник до мозга костей, он так никогда и не сумел достичь синтеза своих разнообразных дарований. Он останется фрагментарным, если после него вообще что-либо останется при его неутолимой духовной любознательности и расточительном отношении к таланту. Элегантный. Хитрый. Распутный. Бывший до войны неплохим спортсменом, он до сих пор в январе поднимается вверх по Саве в своем стареньком скифе. Фехтует и ездит верхом. Лет двадцать тому назад он притащил из Чачака в Белград деревянный сельский памятник неизвестному сербскому солдату и установил его при входе в Сербскую академию наук и искусств. По этому поводу написал поэму «Знаки смерти» на французском языке и издал в трех экземплярах. Три года назад в знак протеста сжёг этот фаллосообразный объект перед выставочным павильоном после того, как его не приняли в экспозицию. Порочен. В белградских литературных салонах до сих пор помнят его дерзкое высказывание: «Я был всем, не был только лесбиянкой!» Существенно ли в самом деле то, что он не выпустил собрания своих сочинений? Он совершил гораздо большее, заразив нас своим сумасбродством, абсолютно невероятным образом мыслей и особым взглядом на жизнь и искусство. Кто только не прошел через его дом и его школу! Когда-то в Белграде это была одна из первых станций на пути к славе.
Летом 1957 года я получил через редакцию «Дела» его телеграмму: «Дорогой молодой друг тчк прочитал ваше эссе об Эрихе Шломовиче тчк хотел бы побеседовать с вами тчк жду вас в четверг в пять тчк адрес…»
Я шагал по раскаленным улочкам к его дому, волнуясь и робея перед предстоящим знакомством. Я боялся не оправдать того благоприятного впечатления, которое произвело на него маленькое эссе о картинах Ренуара, Дега и Редона из собрания Шломовича в белградском Народном музее. До сих пор тешу себя мыслью, что это была первая опубликованная у нас статья о странном коллекционере. Полянский, вероятно, хорошо знал Шломовича еще с парижских времён. От бы мог сообщить мне драгоценные сведения и указать путь, по которому должны пойти мои дальнейшие исследования. До этого мне удалось познакомиться с несколькими людьми, которые были откровенны со мной только до определённых границ, а потом замолкали или переводили разговор другую тему. Между мной и моим героем как бы опускался невидимый занавес времени. Когда я пытался вернуться к так и не прояснённой судьбе Шломовича, они отговаривались тем, что ничего не помнят и что вообще всё это было очень давно… Я чувствовал, что они что-то скрывают. Но что — я так и не сумел докопаться. Каждый отсылал меня к другому свидетелю, который якобы был гораздо более близок со Шломовичем. Мне советовали, например, разыскать художника В. Л., в парижской мастерской которого Эрих Шломович провел какое-то время. «Он прекрасный человек! Он вам обо всём расскажет!» Я договорился с художником о встрече за неделю. Он умер за три дня до назначенного свидания. Отличный повод, чтобы напиться вдребезги! Я пришёл на похороны и видел, как последнего человека, знавшего всё о Шломовиче, опускают во влажную рыжую глину. А может, он-то и был тем ключом, с помощью которого я смог бы сложить воедино рассыпанные кусочки волшебной мозаики и добраться до глубоко запрятанной истины? И второй свидетель, один старый искусствовед, умер прежде, чем мне удалось его отыскать. Третий ослеп и оглох и больше никого не принимал. Одной женщине, которая немало знала о семье Шломович, сын не разрешал ничего рассказывать. Некто, когда-то писавший о нём, отсидел несколько лет в тюрьме и тех пор молчит как рыба. Какой-то рок довлел над тайной коллекции Шломовича, к которой я так легкомысленно загорелся интересом, но именно поэтому меня всё больше привлекал этот давно ушедший из жизни человек, словно взывающий ко мне из тьмы, моля рассказать о его жизни и смерти…