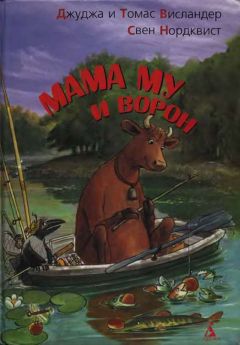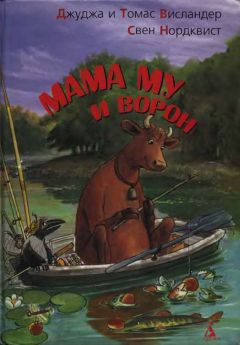Алексей Слаповский - Талий
Вот это меня и ждет, подумал Талий, затушивая третью сигарету, не докурив ее: во рту появился неприятный привкус. Сначала одиночество. Без жены, без сына, которого он так любит, что боится даже лишний раз об этом подумать. Потом вместо своей многолетней работы по классификации типов он найдет что-нибудь другое, обязательно найдет — не менее бесцельное и идиотское занятие, на котором и свихнется. А может, свихнется как раз на классификации, ибо дело это неисчерпаемое. Была б охота классифицировать, а что именно классифицировать — неважно.
Талий представил с самоиздевкой — отчасти почему-то даже приятной — как, он, например, озаботится систематизацией и упорядочением в своем сознании — взглядов. Человеческих взглядов — не в смысле умственных воззрений, а — выражений глаз. Он возьмет фотоаппарат свой — или купит новый, профессиональный, хороший, — и будет ходить по улицам, подкарауливая. Он будет снимать только глаза, печатать, увеличивая и убирая все лишнее, — только глаза. Задумчивые, печальные, смеющиеся, улыбающиеся, хитроватые, наглые, откровенные, откровенно-притаенные, откровенно лгущие, откровенно откровенные, откровенно старающиеся казаться откровенными, на самом деле не будучи такими, откровенно старающиеся казаться откровенными, потому что владельцу кажется, что они неоткровенны, а они-то как раз и были откровенны, но вот владелец придал им, откровенным, откровенный вид, и они стали лживее откровенно лживых…
Неожиданно — фантазировал Талий — к его занятию проявят интерес: ибо нет того безумия, вокруг не соберется как минимум тысяча людей, готовых этому безумию потакать и принять его за гениальность. И вот из необычных его фотографий доброхоты устраивают персональную выставку. С этой выставкой он едет в Москву, а из Москвы — в Париж, Лондон, Стокгольм, Ниццу, Нью-Йорк, Мельбурн… Следующая его выставка: руки. Только руки, ничего кроме рук. Потом — только ноги. Он становится родоночальником нового эстетического учения, в основе которого постулат о невозможности отражения чего либо в целости и совокупности, важней — и художественней! — из целого вычленить самую выразительную деталь в самом выразительном ракурсе! Это будет называться „дет-арт“, куражился вовсю Талий над своими мыслями, „дет“ — от слова „деталь“, „арт“ — понятно. И вот уже тьма тьмущая последователей, — и тут сам родоначальник публично и торжественно отрекается от своего учения, возвращаясь к классическому фотопортрету, снимая, однако, только в сумасшедших домах. Выставка будет называться: „Наш портрет.“ Это будет иметь успех, он знает: люди любят пряное, остренькое, — и в себе тоже, и в себе!..
… А скорее всего он просто будет каждый день умирать от одиночества и от тоски — и настанет самый худший день, когда, вроде, один выход — с балкона вниз головой, но — сил нет, уже и на это сил нет.
Я лишний человек, подумал Талий. Не тот литературный лишний человек, которого мы в школе проходили, который якобы — Талий в этом всегда сомневался — родился не вовремя: слишком рано или слишком поздно. Печорин этакий. Нет, просто — лишний, чуть ли не физически лишний, никчемный, ненужный. Мешающий. Сын — надо смотреть правде в глаза — через года два уже не вспомнит о нем. Такой у него возраст. Наташа забудет чуть позже, но отболит у нее тоже довольно скоро — если вообще будет болеть. Я — тот самый человек на сцене жизни, красиво подумал Талий, не преминув этой красивости усмехнуться, который, словно в театральной массовке, изображает в толпе жизнь и движение, и осмысленные действия, и осмысленнные слова, на самом деле тупо бормоча: „Что говорить, когда нечего говорить? Что говорить, когда нечего говорить?“ Я ни для кого не являюсь главным героем. А это нужно: хоть для кого-то. Хоть для собаки или кошки. Да я и сам никого не люблю. Сына и Наташу — это само собой, это — как жить. Это незамечаемо. Было незамечаемо — до некоторых пор. Со всеми остальными — просто дружественен. И на похороны мои дружественно придет человек от силы двадцать. Нет, все-таки больше: человек сорок, но эта вторая половина будет стимулирована любопытством послушать, что на похоронах говорят о причинах самоубийства такого тихого и приятного во всех отношениях, такого ровного и мягкого человека.
Действительно, каковы причины?
Наташа тоже будет думать об этом. Записки он не оставит, это все игрушки: записки писать. Она будет думать, она будет опрашивать всех его друзей и знакомых. И все будут только пожимать плечами.
Бог мой! — подумает Наташа с печалью, я совсем не знала его, я совсем не представляла, что творится в душе его! Казался таким простым, таким ручным, незамысловатым — и вдруг…
Неожиданное, странное злорадство, появившееся в это время в Талии, — смутило его, и он извлек из банки-пепельницы окурок, распрямил, стряхнул угольную черноту с кончика — и закурил, простыми этими движениями словно приземляя себя, — а то уж очень, глядикось, демоничен стал в своих помыслах: смертью своею нелюбящей жене отомстить возжелал…
11.Талий оперся локтями о перила балкона, спокойно глядя вниз — понимая уже, что прыгать не будет. Он как-то сразу и неожиданно устал, отупел. Ничего уже более или менее отчетливого не было в голове его (хоть и прежде было многое обрывочно, неясно, поспешно — и стало внятным лишь благодаря мне, пересказчику этой житейской истории ((некоторым может странным показаться, почему я назвал это историей: ведь, в сущности, ничего не произошло, — и это правда, это так, но, когда Талий в нескольких словах рассказал мне об этом, хмыкнув в заключение: такая-то вот, брат, житейская история, мне слишком запомнилось, в меня вошло — и жаль отказаться, независимо от того, точно ли, нет ли, правда ли, нет ли…)).
12.Усталость, казавшаяся непреодолимой, схлынула так же внезапно, как и накатила.
И нет объяснения, нет причины тому, что сделал Талий после этого, докурив окурок и старательно втоптав его пальцами в банку.
Если б солнце вдруг проглянуло сквозь сплошное серое небо хмурого утра. Если б детский радостный звонкий клич во дворе тронул какие-то душевные струны Талия. Если б голубь иль воробушек на перила сел и посмотрел на Талия глуповато и доверчиво. Если б порыв ветра налетел и овеял чем-то новым. Если б лист желтый высоко поднявшегося тополя шелестнул и этим крохотным движением осенил Талия и сподвигнул на переворот в мыслях… Ничего не произошло, ничего не случилось во внешнем мире, но Талий вдруг оглядел его, особенно небо, так, как глядят прощаясь — но не навсегда, а уходя или уезжая от этих краев в иные края (при этом, возможно, и с места даже не трогаясь), Талий оглядел это все, включая двор, где и было-то всего живого — старушка с сумкой да жучка шустрая, хвост крючком. Талий оглядел это, совершенно ясно понимая, что необыкновенно, небывало счастлив и полон жизнью и любовью — и готов ко всему, — не зная, что его ждет. Что это было, откуда взялось, может, это Бог называется — но за что и почему в этот момент? — спрашивал меня потом Талий, не ожидая ответа… И он решительно шагнул в комнату, прошел на кухню и, прежде чем сесть и начать разговор, посмотрел на настенные часы и задумчиво усмехнулся. Было без десяти десять.