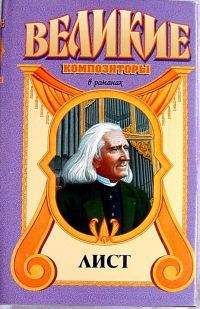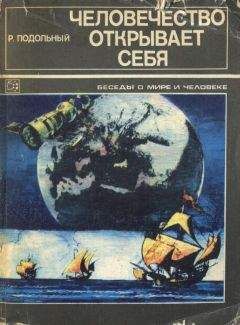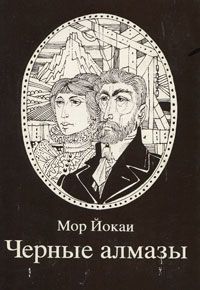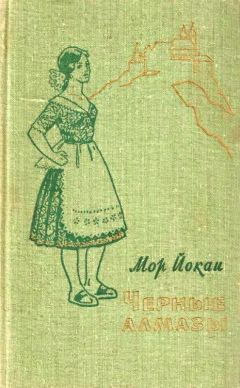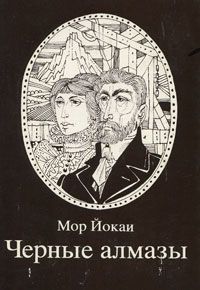Дёрдь Конрад - Соучастник
Возможно, в эту клинику душевных болезней я ушел от своей семьи. У меня нет уверенности — во всяком случае, не на все сто процентов, — что я не сам выбирал себе близких; но товарищей по больнице выбирал точно не я, и от этого на душе у меня спокойно. Они в той же мере привычны и в той же мере невыносимы, как близкие вообще. Констатирую беспристрастно: с большей или меньшей невозмутимостью я смог отказаться от каждого из них. Даже от тех, кого любил. Когда они приезжали проведать меня, я был рад; когда уезжали, махал рукой, стоя у ворот, а кого-то провожал до деревенской околицы. Оттуда они ехали дальше, а я пешком возвращался в клинику. Иногда меня навещает жена; у нее милая улыбка и воспаление лобных пазух, внимание ее постоянно слабеет. Потом она между прочим замечает: насчет твоих дел — тебе, конечно, виднее, но мне кажется, ты меня бросил. И это — чистая правда; особенно когда я узнаю, что мое место занял один из моих друзей. То, что мы двадцать лет прожили вместе, скорее странно, чем трогательно. Я помню о ней, она мне снится, но — меня нет с ней. Кого и чего ради мы сейчас живем отдельно — а я ведь действительно с готовностью дал упечь себя в эту клинику, — мы, пожалуй, не сможем понять никогда; остается довольствоваться тем, что мы долго терпели и даже любили друг друга. Состояние моего духа в такие часы, ближе к вечеру — то ли огниво, то ли трут.
Утром я прихожу в сумасшедший дом, вечера провожу в корчме, опираясь на стойку, наблюдаю, какая карта идет игрокам или как по зеленому полю катится красный бильярдный шар. Во дворе корчмы кегельбан; игроки делают сильный замах, пуская тяжелый шар, потом спорят, сколько кегель упало, и все крайне удручены: ведь и тот, кто замахивается кулаком, и тот, кто получает затрещину, твердо уверены в своей правоте. Рядом грустит один мой сосед: он привез из больницы парализованную жену — и сейчас еле справляется, убирая испражнения из-под грузного тела. Приподняв за щиколотки, он подсовывает под нее старую телогрейку, а когда она испачкается, еще одну. Но вот в такие моменты, когда он уходит из дому хотя бы на полчаса, жена плачет, пускает слюни, булькает: язык ее уже не способен произносить членораздельные слова.
Деревня плавно переходит в городок, дома тут в основном такие, как были, но на кровлях — черепица вместо камыша, фронтоны на них уже не выбелены, а покрашены в цвет малинового мороженого. Тротуар и сейчас есть лишь на правой стороне улицы; после дождя в непролазной черной грязи буксуют даже грузовики. По тротуару катит на велосипеде женщина, везет молоко, которое только что надоила, сынишка ее сидит перед ней на раме, два бидона, висящие на руле, прикрыты накрахмаленными платками с бахромой — чтобы молоко не выплескивалось. Порядок этот — ни хорош, ни плох: он просто устойчив. Тихие соседи рыхлят кукурузу на склоне холма, они будут кормить кукурузой свиней, свинину будут есть сами. Утром они выбираются из постелей, вечером падают в постель, днем на заводе поднимают и таскают железные фасонные заготовки, с течением лет орбиты вокруг постели все укорачиваются. Проносится грозовой ливень, ветер шумит в ветвях ореха, крестьянская горница с темно-коричневым потолком погружается в сумрак. Я лежу на постели, бормочу себе под нос: сердце ноет, ноги ноют, пора убираться ко всем чертям. Различия сглаживаются, я лежу в лоне времени, оно уносит меня, словно река упавшую ветку.
Семья
Я чувствую чей-то взгляд; кто-то, опираясь на подоконник, заглядывает из сада в горницу. Кто-то берет молоток, который я забыл на окне, и молотком похлопывает себя по ладони. Кто-то даже пахнет по-братски. У кого-то и в этот залитый солнцем майский день зубы стучат от озноба. Кто-то шепчет в пустоту одно-единственное неразборчивое слово. Я еще сплю, я еще ничего не желаю слышать, а это чудовище уже здесь, я устал от него, ему опять от меня что-то надо, надо позарез. Еще не проснувшись, я вижу его карие глаза с темными подглазьями, его клыки, прикусившие мясистые, беспокойные губы. Крылья длинного носа раздуваются, расширенные зрачки устремлены на меня — однако меня не видят. Потолочные балки сбегают куда-то в сторону, стены ходят волнами, стол строит гримасы. В кресле возле стола — изломанная размытая тень, вокруг нее — агрессивный световой ореол. Нейтральные вещи подают ему знаки, он зябко, с кривой короткой ухмылкой кивает в ответ. Да, он принял сигнал, но сейчас пусть они не пытаются вторгнуться в его мозг, который то переполнен, то зияет ледяной пустотой. Он просто, без всяких скандалов хотел бы сначала оглядеться вокруг.
«Ты в порядке?» — спрашиваю я. «В полном». «А врешь зачем?» «Я или молчу, или вру, других вариантов нет. Где тут у тебя микрофон?» «Вон в том яблоке. Можешь его съесть». «Достаточно я глотал микрофонов, они теперь из живота у меня передают информацию. Так что всем и все про меня известно», — говорит он с угрюмой сдержанностью, как человек, который не в первый и не в последний раз сдает бесперспективную шахматную партию. «Я все оттягиваю момент, когда тебя увижу. Я ведь еще не открыл глаза», — даю я ему еще один шанс исчезнуть. Как хорошо было бы, останься его присутствие зыбким миражом где-то вне моих сомкнутых век. Он же норовит набить себе цену; встречи наши всегда начинаются любопытствующим ожиданием: кто первый раскроет объятия, чтобы обнять другого? «Сначала мне в твоей комнате надо вот так, снаружи, обвыкнуться. Она у тебя дышит хрипло, будто простуженная, не замечал?» «Нет», — решительно отвечаю я. Я не иду в расставленную им ловушку, но он упорно тянет меня на свою половину, где мы будем, будто мячи на поле, пасовать друг другу его уродливые понятия. «У меня даже волосы заплесневели», — выстреливает он в меня сухую жалобу. «Неприятная штука», — уклончиво говорю я. «Знаешь почему? В поезде одна старуха всю дорогу мне в затылок дышала», — хнычет он. А еще какой-то трубочист мял у него над ухом газетную бумагу. И еще в автобусе по дороге сюда на него смотрели с унизительным любопытством. Он ощупал свои карманы, но тогда пассажиры стали вести себя еще подозрительнее. Он даже кондуктору не хотел выдавать, куда направляется, на что тот рявкнул на него по-хамски, мол, как же он тогда билет ему даст? Пассажиры с притворной доброжелательностью уговаривали его сказать, до какого населенного пункта он едет, но он только молча тряс головой. Наконец кондуктор, который привез в деревню уже немало чокнутых, с оскорбительным великодушием махнул рукой: дескать, у кого шариков в голове не хватает, может ехать и без билета.
На околице брат слез с автобуса и под садами, потом по склону холма, утыканного старыми надгробиями и черешневыми деревьями с краснеющими уже ягодами, добрался до моего дома. Шел он, озираясь, весь переполненный напряженным ожиданием: когда же кто-то неведомый прыгнет ему на плечи; путь продолжался целую вечность. Ветер швырял ему под ноги какие-то колючие шарики. В старой, заросшей травой бомбовой воронке щипал траву взлохмаченный осел; он посмотрел на Дани и сказал: «Я уже знаю». С той самой минуты Дани зябнет. Даже собственное тело встает у него на пути, эта сплошная рана с девятью отверстиями, которая функционированием своим лишь подтверждает повсеместность царящего в мире насилия: вверху что-то входит в тебя через семь дырок, а внизу выходит лишь через две.
Он приехал ко мне попрощаться: сегодня вечером он — с легальным паспортом — покинет эту страну навсегда. Поищет на Западе какой-нибудь портовый город, где его возьмут грузчиком. Все свои роли он уже отыграл, провал на провале, теперь остается или исчезнуть в тумане, или проглотить горсть снотворного. Сейчас он собирается поменяться со мною одеждой, чтобы его не узнали; бороду тоже сбреет; или, может, покрасить ее под седину? Из окна вагона он заметил подозрительное перемещение войск; не случайно же, что именно сегодня. Схватить его, может, сегодня еще не планируют, но под колпаком уже держат. Но почему их так много, и зачем танки? Со здешней почты он разошлет свою исповедь, в десяти экземплярах; он соберет все гнусности, лишь бы только бумага вынесла. Я, как старший брат, должен благословить его и проводить на станцию. Еще я должен знать: его уход — что-то вроде тихого самоубийства. «Тихого?» — коварно вздыхаю я. Он обижается: «Ты, конечно, не чувствовал, что со мной творится неладное, верно ведь? И не ждал меня. Открой сейчас же глаза!» «Мне это твое появление, братец, как зубная боль, — говорю я со стоном, — Ты ведь ни разу еще не приезжал просто так. Обещай, что, перед тем как уедешь, не подожжешь этот домишко». Если бы он появлялся у меня реже, я бы не сидел и половины того, что сидел.
Я сажусь в постели и разглядываю феномен в окне: двусторонний пыльник, безупречный бархатный пиджак, все еще неотразимая улыбка. На лбу — морщины треугольником, по-мальчишески любопытный взгляд; но любопытство его сосредоточено главным образом на том, любопытен ли он мне. Мягкие, настороженные движения: он — словно кошка с выгнутой спинкой, которая прыгнет точно туда, куда нужно, если в нее полетит шлепанец. Его можно принять за грабителя банков, за фокусника или за агента какой-нибудь спецслужбы; но если ты рассмотришь его получше, вряд ли согласишься одолжить ему крупную сумму. Хотя этому и противоречит тот факт, что меня он бессчетное число раз оставлял с носом: ведь кто-кто, а я-то прекрасно знал, что он и ломаного гроша не вернет. Жертва-профессионал, он ждет от меня, чтобы я же еще перед ним и оправдывался; ждал и в тех случаях, когда закладывал меня в органах.