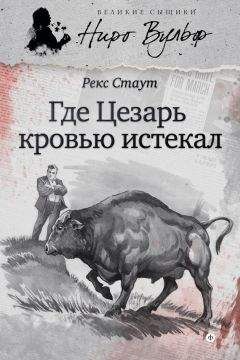Робер Сабатье - Шведские спички
Пока волчок вертелся, как обезумевшая мышь, ребятня толковала о джиу-джитсу, о кэтче, который считался самым опасным по своим жестоким приемам, соединявшим борьбу и кулачный бой, потом попытались представить себе бой между участником кэтча, таким, как Деглан, и известным боксером Карнера или гиревиком Ригуло, причем в споре каждый из ребят спешил высказать свою точку зрения. Беседа была прервана восклицанием Анатоля:
— А вот и Мак!
Да, это был Красавчик Мак, парень постарше их всех; он выходил из дома номер 77, с презрением, сверху вниз, оглядывая людей на тротуаре. Хвастун Мак, покачиваясь, подошел к ребятам, глаза его, как обычно, были насмешливы и злы. Дети расступились, наблюдая за ним, а Мак вымолвил:
— Эй вы, пузыри! — Нагнувшись, он подхватил на лету волчок и стал перебрасывать его с руки на руку. Подростки зароптали. Тогда он грозно встал перед ними, лихо сдвинул шляпу и пренебрежительно бросил: — Не по нраву?
Так как никто не ответил, Мак ограничился репликой: «Вот и ладно!» Подбросив вверх волчок, он подпрыгнул, поймал его и ударом ноги закинул в самый конец улицы. Потом поправил галстук, вернул шляпу на место и, посмеиваясь, пошел дальше.
— Ну и катись! — крикнул ему вслед Туджурьян, но едва «каид»[4] обернулся, парень начал смотреть в сторону, сделав вид, что кричал не он. Когда Мак был уже далеко, Капдевер вызывающе заявил:
— Скажи пожалуйста, ведь он сутенер, и все тут!
Но именно Мак вызвал у всех мысль о драке. Все были недовольны, что пришлось уступить его силе, и каждый хотел сорвать злость на другом. Началась толкотня, и Оливье предпочел отойти подальше — не из-за страха, а потому, что носил траур.
Улица заполнилась звуками музыки, вся содрогаясь от крикливых мелодий и припевов. Мальчику захотелось покинуть этот шумный остров. Он прошел, не оглядываясь, мимо Альбертины, мадам Нана, мадам Шаминьон, Гастуне. В конце улицы заметил Красавчика Мака, оглушительно свистевшего в два пальца, подзывая такси. Оливье заинтересовался, куда же тот направляется на ночь глядя, и попытался скопировать его походку.
Мальчишка засунул руки в карманы, ощупывая одну за другой лежавшие там бабки, прищепки для белья, гнутый гвоздик, связку веревочек, резинки, которые он растягивал двумя пальцами, как рогатку. Циветта, изображенная на вывеске кафе «Ориенталь», привлекла его, и он, никем не замеченный, зашел в переполненное людьми помещение. Посетители сидели за столиками с полулитровыми кружками пенящегося пива, пол был усеян шелухой арахиса, смятыми коробками от сигарет и прочим мусором, перемешанным с грязными опилками. Сильные запахи табака, кофе, ликера, духов насыщали воздух. Слышался смех, перебиваемый стуком бильярдных шаров, возгласы, обращенные к официантам в черных жилетах, побрякивание игральных костей, высыпаемых из кожаных мешочков, бульканье кипятильников, дребезжанье граммофонных пластинок. Все сверкало и блестело — бутылки ликеров и сладких аперитивов, бокалы, выстроенные шеренгами по размерам, никелированный шкафчик, в который официанты складывали свои передники, металлические обручи на мраморных столиках, цинковый прилавок…
Восхищенный Оливье приблизился к молодым людям, игравшим в «подъемный кран». Гипноз игры, тревожное ожидание придавали взглядам людей значительность, сосредоточенность. Металлическое приспособление — стрела с грейфером, — заключенное в стеклянную клетку, не так уж часто подцепляло какой-нибудь предмет, но зажигалки, портсигары, расчески и всякий ювелирный хлам были разложены на горках цветных дешевых конфет; каждым поворотом подъемной стрелы игрок руководил с помощью кнопки, а хромированные челюсти грейфера схватывали один-два из этих съедобных камушков и относили их в подъемник. Потом следовало опрокинуть приемный ящичек, чтобы высыпать их, что делали обычно дети. Вот и Оливье, простояв здесь две партии, набрал полные горсти этих безвкусных сластей.
Однако вскоре его присутствие заметили.
Черноволосый официант с тонкими усиками шлепнул мальчика по ногам полотенцем и приказал:
— Убирайся, цыпка!
На улице Оливье заколебался. Возвращаться домой было рано. Он мог бы пойти в направлении бульвара Орнано, спустившись по той части улицы Лаба, что смыкается с бульваром Барбес, к церкви Ла Шанель и через улицу Клиньянкур выйти к бульвару Рошешуар. В этом случае он проследует оживленными и ярко освещенными бульварами, мимо «караван-сараев», именуемых Пигаль, Бланш, Клиши, пробежится по прекрасной улице Коленкур и вернется к месту отправления. Но ребенок отбросил все эти маршруты — они бы вернули его в толпу. Он остановился немного подумать и оперся спиной о железную решетку, ограждавшую каштановое дерево напротив «Кафе артистов». Тут было гораздо тише, чем в кафе «Ориенталь». На террасе располагались целыми семействами, сидели какие-то толстяки, игравшие в карты, — в манилью, в жаке, в занзи, — прихлебывая пиво из пузатых кружек с массивными ручками.
Почему же вдруг, едва он ощутил человеческое тепло, исходящее от этих людей, в нем задрожала, издав стон, какая-то больная струна? Одержимый тоской, Оливье подумал, что, оставшись без матери, к тому же и без сестры, он так и будет бродить в потемках из вечера в вечер, в бесплодных поисках чего-то неясного, лишь еле-еле отогреваясь у чужих очагов, как около уличных жаровен зимой, — ведь его-то очаг погас навсегда.
Что с собой делать, он не знал. Ребенок понял с тоской, что слишком много дорог, слишком много улиц расстилается перед ним, и какую из них он по собственной прихоти выберет, не имеет значения. Он представил себе еще более мрачную тьму, чем та, что окутывала его в клетушке под лестницей на улице Беккерель. Он уже не может туда проникнуть — вечером подъезд запирается. Мальчик побежал по ближайшей от него улице Ламбер. Легкий сухой ветерок щелкал флагом над дверью комиссариата полиции. Оливье добрался до лестницы Беккерель, вскарабкался по ступеням, пытаясь отвлечься от своих дум. По пути он увидел дом с чуланчиком, затем бюро по сбору прямых обложений, куда Виржини ходила платить налоги, и, наконец, отель Беккерель, где была вертикальная световая вывеска. Дойдя до вершины холма, Оливье повернулся, чтоб взглянуть на Париж.
Казалось, город мурлычет, как огромная кошка. Столько тайн хранил в себе Париж, что ребенок, хотя и предугадывал это воображением, был потрясен. Он почувствовал себя одновременно и жалким и сильным, как будто сам был владыкой всей этой ночной жизни, но не мог проявить над ней свою власть. На мгновение его неудержимо потянуло скользнуть по перилам вниз и катиться, катиться, пока от него ничего не останется. Он крепко обхватил себя руками, чтоб не поддаться этому желанию, и вдруг тронул пальцами траурную повязку на свитере. Оливье рванул ее так, что почти отпорол. Тогда он вновь побежал по улице, чтоб хоть как-то отвязаться от неотступных мыслей.
На улице Соль мальчик задержался у деревенского домика, некогда названного «Кроликом Жилля», а потом превратившегося в «Проворного кролика». Этот домик всем своим видом навевал сельские воспоминания, тем более, что, по словам Жана, на месте Монмартра была когда-то деревня. Перед дверью этого дома всегда сидел на скамейке старый человек с седой бородой. Виржини говорила сыну, что это Дед Мороз, и ребенок верил ей; жители улицы Соль относились к старику с почтением и звали его Большой Фреде.