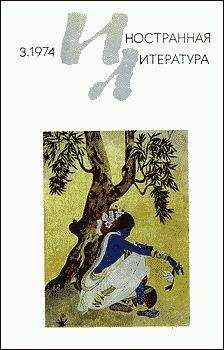Филип Рот - Она была такая хорошая
Шуточки дяди не всегда были Рою по вкусу. Одно дело крыть направо и налево в казармах или в мехчасти, и совсем другое, когда рядом женщины. Что касается языка дяди Джулиана — это Рой понимал, — тут отец прав на все сто. И к тому же Джулиан иногда бесил его своими взглядами на искусство — вот уж полная темнота. Его, правда, беспокоила не проблема куска хлеба, а то, станет ли Рой мужчиной в этой никчемушной школе. „С каких пор ты решил заделаться мозгляком, Рой? Неужто на Северном полюсе вас учили, как обабиться на деньги налогоплательщиков?“
Но вообще-то Джулиан шутил довольно добродушно, да и споры их не слишком затягивались. И хотя в Джулиане едва набиралось пять футов да парочка дюймов, он служил офицером в пехоте, и пули могли продырявить ему портки столько раз, что и не сосчитать. И пусть Джулиан никогда не выбирал выражений, кто бы его ни слушал — женщины или дети, все же он вызывал симпатию, потому что говорил чистую правду. Вся слава в эту войну досталась тому парню, который разок выкрикнул немцам: „Пижоны!“ — ну, а его, Джулиана, 36-я дивизия звала „Нет, вам капут!“ — вот как он говаривал в бою, когда другой на его месте давно бы сбежал, а не то и сдался бы в плен. Он дошел до майора и получил Серебряную звезду, так что даже Ллойд Бассарт был готов, что называется, снять перед ним шляпу и, когда Джулиан вернулся домой, пригласил его выступить перед всей школой. Рой это прекрасно помнил: за первые пять минут дядя Джулиан успел дюжину раз чертыхнуться (Ллойд Бассарт вел точный подсчет), но потом, к счастью, остыл, а когда он кончил речь, школьники встали и запели в его честь гимн.
Джулиан редко звал Роя по имени, а чаще Водокачкой, Дылдой, Дохляком и Джоем Слюнтяем. Иногда, прежде чем впустить племянника в прихожую, Джулиан вставал в стойку и, приплясывая как боксер, отступал к двери гостиной: „Ну, давай, Рохля, попробуй только подойти — сразу приземлишься“. Рой знал парочку приемов (выучился на уроках физкультуры, хотя воспользоваться этой наукой у него еще не было случая), так что он выставлял правую руку и наступал на Джулиана, тот подпрыгивал, наносил удар, а сам всегда успевал увернуться. Рой кружил и кружил, дожидаясь, когда дядя откроется, но тут — и это ему всегда удавалось — Джулиан поднимал руку, кричал: „Перекур!“ — и пока Рой еще прикрывал кулаками подбородок, а локтями живот (как его учили в школе), Джулиан успевал влепить племяннику под зад носком своего шлепанца. „Ладно, слабак, — говорил он, — садись, дай отдохнуть мозгам“.
Но лучше всего в Джулиане был даже не его веселый нрав, а то, что он мог понять, как тяжело бывшему джи-аю привыкать к штатской жизни. Отец Роя для первой мировой войны был слишком молод, а для второй — слишком стар, и поэтому он не понимал, что значит быть „ветераном“, как и многое другое в современной жизни. Что за два года службы взгляды человека могут измениться — до этого он допереть не мог. И то, что человек отдыхает душой рядом с тем, кто его понимает, с кем он может поговорить обо всем на свете, отец тоже не мог взять в толк и считал пустой тратой времени. Он и в самом деле доводил Роя до белого каления.
Не в пример ему Джулиан был готов без конца слушать Роя. Правда, и он не прочь был давать советы, когда их не просят, но все-таки есть маленькая разница: советуют тебе или приказывают. Как-то мартовским вечером (а надо сказать, Джулиан выслушивал Роя вот уже битых полгода), когда они с Роем, покуривая сигары, смотрели по телевизору шоу с Мильтоном Берли, Рой, дождавшись рекламы, заговорил: он начинает подумывать, что, может, отец и прав — время течет между пальцами, как вода…
— Что-то уж больно ты плачешься, — отозвался Джулиан, — тебе что — сто лет в обед?
— Ну, не в этом же дело, дядя Джулиан…
— А в чем? Ты давай не дури.
— Жизнь ведь…
— Жизнь! Тебе двадцать годков. Понял? Двадцать, Верзила, и это не веки вечные. За ради Христа, поживи нормально хоть чуток, не дури. И хватит об этом.
И вот на другой день Рой наконец решился: поехал в Уиннисоу и купил подержанный двухцветный „гудзон“ позапрошлого выпуска.
2Спрятавшись за занавесками, Элли Сауэрби и ее подружка Люси частенько поглядывали, как он возится с машиной. Время от времени Рой присаживался на бампер своего „Гудзона“ — колени подтянет к груди, а перед глазами крутит бутылку кока-колы. „Бравый вояка задумался над будущим“, — говорила Элинор и фыркала. Но Рой притворялся, что не замечает их, даже когда Элинор барабанила пальцами по стеклу и потом быстро отпрыгивала от окна. Погода стала теплее, и теперь нередко можно было видеть, как он лежит, развалясь в машине — ноги на спинке переднего сиденья, в руках — библиотечная книга. „Эй, Рой! А в Швеции ты где будешь жить?“ — кричала Элли. В ответ на это он обычно громко хлопал дверцей. „Он читает все, что пишут о Швеции. Половина фермеров в нашей округе бежали оттуда без оглядки, а он туда собирается“.
— Правда? — отозвалась Люси. Ее это не задевало, хотя ее дедушка был фермером, он приехал из Норвегии.
— Ну, надо надеяться, что он все же уедет, — продолжала Элли. — А то папа боится, как бы он к нам насовсем не переселился. И так целыми днями тут торчит… — Она опять высунулась из окна: — Рой! Тебе мать звонила, говорит, собралась продавать твою кровать.
Но он уже лежал под машиной, и со второго этажа были видны только его подметки. Замечал он девушек лишь в гостиной, когда они выходили в сад через раздвижные стеклянные двери, а он ни за что не хотел подвинуть ноги, ни на полдюйма, так что им приходилось перешагивать его ботинки. И вообще Рой вел себя так, будто дом разделен на две команды: в одной — он с Джулианом, в другой — девушки и миссис Сауэрби.
Но что бы он там ни воображал, Люси Нельсон все же не думала, будто Айрин Сауэрби с ней заодно. Хотя с лица миссис Сауэрби не сходило выражение любезности и гостеприимства, Люси была почти уверена, что за глаза та не слишком-то хорошо отзывалась и о ней самой, и о ее семействе. Как только Люси появилась у них в доме, миссис Сауэрби стала называть ее „дорогая“, а уже через неделю Элли с ней раздружилась и исчезла из ее жизни так же внезапно, как и появилась. А причина тому — Люси твердо была в этом уверена — в матери Элли. То ли она наслушалась всяких гадостей об отце Люси, то ли о ней самой, но миссис Сауэрби не захотела, чтобы Люси ходила к ним в дом.
Это произошло в сентябре, в их выпускной год. А в феврале, словно эти четыре месяца она не вела себя довольно странно для благовоспитанной девицы, Элли просунула ей в шкафчик веселую, дружескую записку, и после школы Люси опять пошла в гости к Сауэрби. Конечно, она могла бы написать Элли: „Нет уж, спасибо! С другими можешь обращаться как угодно, но со мной этот номер не пройдет. Я вовсе не ничтожество, Элли, что бы там ни думала твоя мать“. Или даже вообще не удостоить ее ответом, и пусть себе заявится к половине четвертого к флагштоку и увидит, что Люси там нет и что она вовсе не так уж жаждет стать опять ее подругой.
Конечно, было обидно, что Элинор сначала так увлеклась ею, а потом внезапно охладела, но дело было даже не в этом, а в том, что неожиданная вспышка заставила Люси принять решение, которое она наверняка бы не приняла и в котором потом горько раскаивалась. Но, в общем-то, она виновата гораздо больше Элинор (во всяком случае, ей хотелось верить в это, когда она перечитывала записку на голубой бумаге с монограммой „Э.Э.С.“ наверху). В глубине души она понимала, что Элли Сауэрби ей не компания, ведь она выше Элли во всех отношениях, кроме наружности (которой она не придает большого значения), и богатства (которое вообще ничего не значит), и платьев, и мальчиков… Но именно потому, что, по ее твердому убеждению, Элли уступала ей во всем и тогда, в сентябре, обошлась с ней уж хуже некуда, сейчас, в феврале, Люси решила простить ее и опять пойти к Сауэрби.
А куда еще идти? Домой? Слава богу, ей оставалось прожить там с ними всего лишь двести дней — четыре тысячи восемьсот часов, но тысяча шестьсот как-никак уйдут на сон, а потом она уедет в Форт Кин, в новое отделение женского колледжа. Она подала прошение на одну из пятнадцати полных стипендий, предназначенных для студенток штата, и, хотя папа Уилл говорил, что хоть что-нибудь получить и то почетно, ее расстроило поздравительное письмо, в котором ей сообщали, что она получит жилищное пособие в сто восемьдесят долларов, покрывающее годовые расходы на общежитие. Из выпуска в сто семнадцать человек она пока шла двадцать девятой и теперь горько сожалела, что не трудилась как последний раб, чтобы получить „отлично“ по физике и латыни, где даже четверка с минусом была для нее до сих пор настоящей победой. И тут дело даже не в деньгах. Мать уже давно откладывала деньги на ее образование и сумела скопить две тысячи долларов, кроме того, у Люси было одиннадцать сотен собственных сбережений, а если прибавить еще и жилищное пособие — этого вполне хватало на четыре года учебы, если летом работать полную смену в Молочном Баре и не расходовать денег зря. Люси расстраивало одно: она хотела быть совсем независимой и надеялась, что уже с осени 1949 года больше ничего никогда у них не попросит. Она выбрала Форт Кин прошлым летом потому, что это был самый дешевый из приличных колледжей, а кроме того — единственный, где она могла получить финансовую поддержку от штата. Люси твердо решила поступать туда и ни минуты не колебалась, даже когда мать открыла ей секрет своего „университетского фонда“.