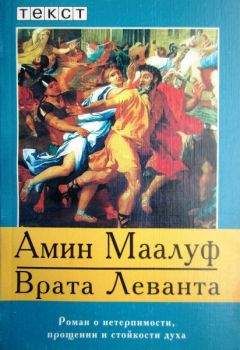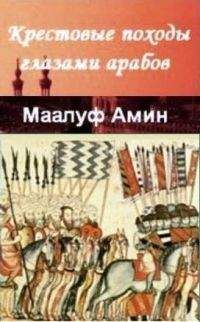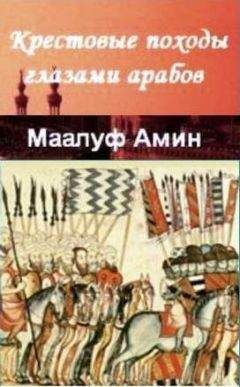Амин Маалуф - Самарканд
Ночь он проводил в обсерватории; располагавшейся на ближайшем к дому пригорке, сразу за садом, так что до милых его сердцу приборов было рукой подать. Он сам содержал их в порядке, протирал, подливал масло, начищал до блеска. Если у него гостил заезжий астроном, они вместе наблюдали за звездами. Первые три года в Исфахане Омар целиком посвятил обсерватории, возведенной и оснащенной всем необходимым под его руководством. В первый день фавардена 458 года, или 21 марта 1079 года, в торжественной обстановке в империи было введено новое летосчисление, предложенное и научно обоснованное им. Кто из персов в силах забыть, что в этот год в соответствии с подсчетами Хайяма святая святых мусульман — праздник Новруз — был передвинут, что начало нового года, всегда падающее на середину знака Рыб, было передвинуто до начала знака Овна, что именно начиная с этой реформы персидские месяцы стали совпадать со знаками зодиака, фаварден превратился в Овна, а эсфан в Рыб? В июне 1081 года пошел третий год новой эры, получившей официальное название по имени султана, но в народе, да и в документах эпохи; называемой «эрой Омара Хайяма». Кто из смертных при жизни знал такой почет? Нечего и говорить, как знаменит и уважаем был Хайям в свои тридцать три года. Кое-кто из тех, кому неведомо было его глубокое отвращение к насилию и власти над себе подобными, возможно, даже побаивался его.
Что же связывало его, несмотря ни на что, с Джахан? Казалось бы, мелочь, но такая важная — ни один, ни другой не хотел детей. Джахан раз и навсегда решила для себя этот вопрос. А Хайям часто повторял высказывание сирийского поэта Абул-Ала: «Я страдаю по вине того, кто породил меня; никому не придется страдать по моей вине»:
Однако назвать Хайяма мизантропом нельзя. Ему принадлежат строки:
Плеч не горби, Хайям! Не удастся и впредь
Черной скорби душою твоей овладеть.
До могилы глаза твои с радостью будут
На ручей, на зеленую ниву глядеть.
Если он и отказывался дать жизнь другому, то лишь потому, что жизнь представлялась ему непосильной ношей. «Счастлив тот, кто не пришел в этот мир», — не уставал он повторять.
Как видно, причины, по которым они отказались иметь детей, были различны. Она была движима непомерным честолюбием, он — предельным безучастием. А слухи о том, что один из них бесплоден, и осуждение окружающих способствовали еще большему их сплочению.
Однако всему есть предел. То же можно сказать и о том, что их объединяло. Случалось, Джахан спрашивала его мнения по тому или иному вопросу, дорожа взглядом на вещи человека, не одержимого пороком алчности, однако очень редко посвящала его в свои дела. Она знала: он осудит ее. К чему бы привели бесконечные ссоры и споры? Конечно, и Хайям не чурался придворной жизни, и если и избегал ее, держась подальше от интриг, в частности тех, что испокон веков противопоставляют придворных докторов и астрологов, все же и у него было немало обязанностей, избегнуть которых было невозможно: участие в пятничном пире, осмотр занедужившего эмира, составление для Маликшаха таквима — месячного гороскопа, с которым тот ежедневно сверялся. «Пятое: не покидать стен дворца; седьмое: недопустимо кровопускание и принятие микстур; десятое: повязать тюрбан в обратном направлении; тринадцатое: не посещать гарем…» — султану и в голову не приходило ослушаться этих рекомендаций. Как и Низаму, который получал свой таквим из рук Омара до наступления нового месяца, жадно прочитывал его и безукоснительно следовал ему. Мало-помалу ряд других лиц также получили привилегию иметь гороскоп, составленный Омаром Хайямом: дворецкий, великий кади Исфахана, казначеи, кое-кто из эмиров-военачальников, несколько богатых купцов, так что работы у него хватало. Десять последних дней каждого месяца он проводил в обсерватории, составляя гороскопы. Люди так жадны до предсказаний! Не всем, однако, повезло пользоваться таквимами знаменитого ученого, были астрологи и поскромнее. А кто победнее, тот, принимая важное решение, обращался к мулле: он с закрытыми глазами наугад раскрывал Коран и тыкал пальцем в стих, который затем и толковался. Самые неимущие выходили на площадь и ловили первую фразу, которая и была для них словом Провидения.
— Теркен Хатун спрашивала сегодня, готов ли ее таквим на месяц тир, — сказала вечером Джахан.
— Сегодня ночью составлю, — отвечал Омар, устремив взгляд в небо. — Небо прозрачное, видны все звезды. Пожалуй, пора в обсерваторию. — С этими словами он поднялся, собираясь идти, но тут появилась служанка.
— Пришел дервиш, просит разрешения переночевать у нас, — проговорила она.
— Впусти его. Отведи в комнатку под лестницей и пригласи разделить с нами пищу, — распорядился Омар.
Джахан опустила на лицо чадру, готовясь к встрече с незнакомцем, но служанка вернулась одна.
— Он сказал, что предпочитает оставаться у себя и молиться. И передал записку.
Омар прочел, изменился в лице. Видя, что муж стал сам не свой, Джахан встревожилась.
— Кто это?
— Я скоро вернусь.
Разорвав записку в клочья, он большими шагами направился к комнате гостя, вошел туда и притворил за собой дверь. Они обнялись:
— Зачем ты здесь? — с упреком бросил он Хасану. — Агенты Низама Эль-Мулька с ног сбились, разыскивая тебя.
— Я пришел обратить тебя в свою веру.
Омар принялся разглядывать лицо друга, желая убедиться, что тот в своем уме. Хасан засмеялся все тем же приглушенным смехом, что и во времена их молодости в Кашане.
— Успокойся, ты последний, кого я стал бы обращать в свою веру. Мне нужен кров. Найдется ли лучший покровитель, чем Омар Хайям, сотрапезник султана, друг великого визиря?
— Ненависти к тебе у них больше, чем дружелюбия ко мне. Добро пожаловать в мой дом, только не думай, что мои связи их остановят, если они что-то заподозрят.
— Завтра я буду уже далеко отсюда.
— Ты вернулся, чтобы мстить? — недоверчиво бросил Омар.
— Отомстить за свою ничтожную персону я не стремлюсь. Моя цель — подорвать господство сельджуков.
Омар вгляделся в друга: вместо обычного черного тюрбана — белый, весь запорошен песком, в поношенном платье из грубой шерсти.
— Какая самоуверенность! Между тем я вижу перед собой гонимого, скрывающегося от всех человека, у которого, кроме узелка и тюрбана, ничего нет, и при этом ты желаешь помериться силами с империей, простирающейся от Дамаска до Герата, на весь Восток!
— Ты ведешь речь о том, что есть, я же — о том, что грядет. Вскоре империи сельджуков будет противостоять Новое учение, мощное, устрашающее, тонко организованное. Оно заставит вздрогнуть султана и визиря. Не так давно, когда мы с тобой появились на свет, Исфахан принадлежал персидской династии шиитского толка, которая диктовала свою волю халифу Багдада. Сегодня персы на службе у турков, а твой друг Низам Эль-Мульк — самый презренный из прихвостней. Можешь ли ты утверждать, что то, что было вчера, невозможно завтра?
— Времена изменились, Хасан, власть захватили сельджуки, персы побеждены. Одни, как Низам, ищут компромисса с победителями, другие, как я, уходят в тень.
— Есть и такие, что сражаются. Сегодня их лишь горстка, завтра будут миллионы, они превратятся в многочисленное, решительное, неодолимое войско. Я — апостол Нового учения, я побываю повсюду, убеждением и силой с помощью Всевышнего буду сражаться с разложившейся властью. Говорю это тебе, Омар, тебе, спасшему мне однажды жизнь: скоро мир станет свидетелем событий, смысл которых поймут немногие. Ты будешь из их числа, из числа тех, кто понимает, что происходит, что и кто сотрясает землю и чем это закончится.
— Яне хочу подвергать сомнению твои убеждения и твой пыл, но я помню, как ты оспаривал у Низама при дворе турецкого султана его благосклонность.
— Ты заблуждаешься, я не негодяй, каким ты меня воображаешь.
— Я ничего не воображаю, я лишь подмечаю противоречия.
— Это оттого, что ты не знаешь моего прошлого. Злиться на тебя за то, что ты судишь по внешним признакам, я не вправе, но ты иначе стал бы относиться ко мне, когда б я поведал тебе свое прошлое все как есть. Я ведь происхожу из традиционной шиитской семьи. Мне всегда внушали, что исмаилиты — еретики. До тех пор, пока я не повстречал одного миссионера, который, поговорив со мной довольно долгое время, не поколебал мою веру. Когда же из страха уступить ему я стал его избегать, я заболел. Да так серьезно, что уже решил: настал мой смертный час. Это был знак свыше, и я дал зарок: если останусь жив — приму исмаилизм. И сразу пошел на поправку. Домочадцы отказывались верить в столь быстрое выздоровление.