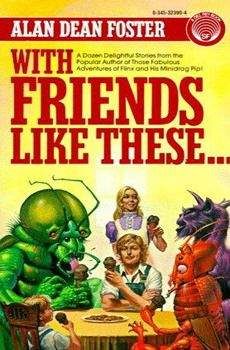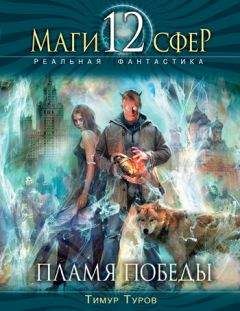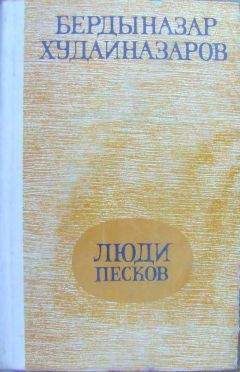Петр Проскурин - Имя твое
— Куриная слепота цветет, Фрось, ой, много, все болота в солнышке…
И Ефросинья второй раз в эти невыносимые для нее сутки заплакала.
* * *— Хочу я поговорить с тобой, Захар Тарасыч, — сказала Ефросинья наутро, выбрав момент, когда Вася вышел на улицу и они остались одни. — Отдохнул, отошел с дороги… Не малые мы дети… Мне с тобой рядом не масленица, если в не Егорка, и думать бы не стала.
— Значит, уходить? — спросил тихо Захар, стараясь понять, что же появилось в Ефросинье нового за те долгие годы, пока они не видали друг друга.
— Твое дело, Захар Тарасович, уехать, остаться, — сказала Ефросинья. — Я тебя не гоню, сам выбирай. Только уж своими, как прежде, нам не стать. Хочешь — живи, а что люди будут говорить, это уж их дело, я привычная. — Какая-то тихая, странная улыбка тронула губы Ефросиньи, и она, взглянув на склоненную, густо поседевшую голову Захара, отвела глаза.
17
С неделю Захару не давали покоя густищинцы; приходила званые и незваные, сидели, расспрашивали, рассказывали и сами удивлялись; мужики являлись, прихватив с собой бутылку первака, вспоминали прошлое, толковали о жизни. Ефросилья готовилась потихоньку к проводам Егора в армию, присматривалась к Васе, тот тоже обвыкался в новой жизни; первые дни, хотя Ефросинья и пропадала на работе с утра до ночи, было тяжело, но и она, и Захар теперь еще с большей отчетливостью понимали, что порознь им будет еще труднее.
Захар побывал на могиле у матери, у бабки Авдотьи, и долго бездумно сидел, вслушиваясь в немолчный шелест листвы на старых ракитах. Мать вместе со всеми провожала его на войну, но он не мог представить ее именно в тот самый момент. Но он хорошо помнил мать совсем молодой, в полушалке с красными цветами па желтому полю; она только что вернулась с ярмарки, разрумянившаяся, веселая, привезла ему большой тульский пряник: конь, а на коне богатырь в остроконечном шлеме.
Перед Захаром эта картина встала, как наяву, отчетливо; и какая-то прежняя легкость появилась в теле. Он чуть прикоснулся к траве, густо и сочно зеленевшей на могиле, словно бережно погладил ее, быстро встал и, не оглядываясь, пошел к селу.
И сам он, и особенно Ефросинья знали, что нужен был какой-то особый толчок, чтобы сблизить их хоть до той степени, когда люди, оставаясь по-прежнему чужими, начинают понимать друг друга, а затем и привыкают. Ефросинья не торопила ни себя, ни его; она понимала, что Захару не так просто войти в размеренный, привычный круг, но было одно дело, которое тревожило Ефросинью, о ним нельзя было медлить. Сама она ничего не могла на придумать, ни предпринять, и как-то вечером, когда они поужинала, решилась.
— Иди раздевайся, ложись, Васек, — сказала она, и мальчик, послушно кивнув, проскользнул в другую комнату, осторожно притворив за собою дверь. Пока Захар курил, Ефросинья убрала со стола, положила в печь дров для просушки, затем устало опустилась на лавку. — Слава богу, видать, сегодня никого не будет, — сказала она, опасливо прислушиваясь. — Люди, люди, словом некогда перекинуться…
Захар покосился в ее сторону, стряхнул пепел.
— Хотела сказать тебе, Захар… с дочкой-то, с Аленкой нехорошо…
Она помедлила, Захар по-прежнему молчал, у него по старой привычке, когда он был недоволен и сердился, сузились, стали острее глаза, но Ефросинья решила не отступаться, она наметила верную точку.
— Дело-то чудное, — продолжала она спокойно. — Не знаю, что там и как, откуда мне понять такие дела, — словно пожаловалась она. — Хочет она вроде расходиться со своим-то…
— А раньше о чем она думала? — спросил Захар, не скрывая недовольства; то, о чем он не хотел знать, спешило к нему помимо его желания, и он сразу понял, что здесь не отмолчишься.
— Не знаю, как ты, Захар, а я за Аленку, ох, боюсь, — сказала Ефросинья. — Не возьму ничего в толк… То, значит, хорош, а то сразу нехорош стал. Ну, не понимаю я, баба деревенская, может, не понимаю чего… да ведь как это так — жить-жить с человеком, а затем ни с того ни с сего — шасть к другому!
— К другому?
— Полюбила, говорит… у самой слезы… Так уж, видать, и полюбила, что плакать хочется… Господи, маленькие детки — заботы маленькие, вырастут…
— А он знает? Тихон-то?
— Тоже гусь хорош, зятек-то наш. Надо было ее сразу с собой в эту Москву, хоть силой ее туда увезть, а теперь вот оно что получается. Молодую бабу одну оставил, экий дурень! Ох, горе, горе, сломит она себе голову… Споткнется, а там…
— Ну а мы-то с тобой что можем сделать? — угрюмо спросил Захар.
— Что, ничего… Я уж с ней по-всякому говорила, разве послушает? Куда… ученая, вишь, доктор, выучилась на свою голову. — Ефросинья заволновалась. — Совесть всякую забыла, человек ее на ноги поставил, брата выучил… Вот напасть! — Ефросинья, пытаясь выразить завладевшие ею мысли и сомнения, хотела еще что-то сказать и лишь безнадежно махнула рукой. — Вот что я думаю, — сказала она немного погодя. — Съездил бы в Холмск, поговорил. Заодно бы детей повидал…
От неожиданности Захар не нашелся, что ответить; он исподлобья глянул на Ефросинью, вынужденно расхохотался.
— Придумала шутку, — смог наконец он выговорить сквозь смех. — Здорово! Ни с того ни с сего заявился — и нате вам, в учителя! В самом деле, кого хочешь перепугаешь!
— А что ты зубы скалишь? Раз вернулся-то к родному месту, никуда от своей жизни не денешься, — нахмурилась Ефросинья. — Какой-никакой отец…
— Вот-вот, какой-никакой…
Ефросинья не стала ничего больше говорить, и Захар замолчал, прислушался, в лампе потрескивал фитиль.
— Может, молочка парного выпьешь, Захар? — спросила Ефросинья.
— Не хочу, спасибо, — отказался он, не поднимая головы, видя перед собой утопленную в половую доску шляпку гвоздя и намеренно не решаясь оторваться от нее. Он почувствовал, что Ефросинья подошла и села рядом с ним; она тоже жалела, что завела трудный разговор. — Трудно, Фрося, — пожаловался он скупо и просто, — Видать, раз уж откололся, назад не приставишь.
— Значит, у тебя запас-то остался, раз трудно тебе, — сказала Ефросинья, поглядывая на его поредевшие, с проседью, волосы. — У кого силы больше нет, тому уже не трудно, тому все равно…
— А доживать как же? — спросил он. — Доживать-то надо…
— Надо, — согласилась она. — Доживем… доживем как-нибудь… Коли тебя бес какой не попутает… А с Аленкой что ж, может, оно еще и наладится. Хороший человек Тихон Иванович, что ж ей еще-то, дуре такой, надо? Ну, пятьдесят ему скоро, так и ей уже за тридцать… Жила бы себе… Как можно так-то вот, сразу, все порушить?
— Значит, можно, — тихо сказал Захар, задумываясь совершенно о другом — о Лукерье, матери Мани, встретившей его такими обидными словами. Теперь, когда все начинало слегка проступать, именно слова Лукерьи больше всего ударили и никак не забывались, и он решил обязательно сходить к ней и поговорить.