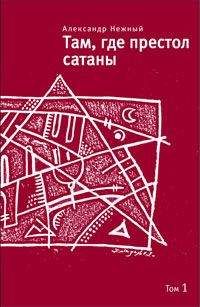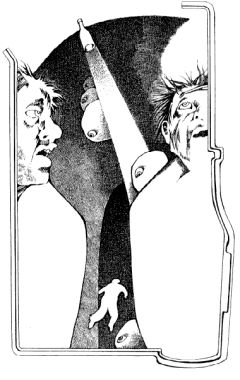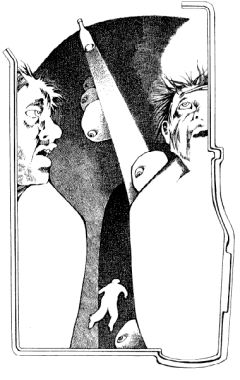Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 2
Потом он долго стоял, приложив руку к груди и стараясь унять захлебывающееся в перебоях сердце. Отдышавшись, он включил фонарь. На его пути валялась еще одна банка и блестело разбитое стекло… есть кому, переживая, помолиться о тебе. Ты, Анечка, у меня есть, и ты вместе с мамой моей обо мне молитесь. Господи, помилуй.
Он вошел в келью Гурия и, шепнув: «Благослови, старче. Я к тебе – забрать, что дед мой у тебя оставил», осветил стену, в которой вчера под его нажимом ощутимо поколебались два кирпича. Он их запомнил: на уровне его груди, почти посередине, чуть ближе к окну. Сделав два шага, Сергей Павлович приблизился к стене и тут же провел по ней ладонью. Один дрогнул. И второй рядом. Они.
Он запихнул фонарь за пазуху, достал и раскрыл нож, извлек фонарь и просунул крепкое лезвие в едва заметный зазор между кирпичами. Внизу – вдруг услышал он – взвизгнули собаки. Он тотчас погасил фонарь и некоторое время стоял в полной темноте, весь обратившись в слух. Мутный мрак наползал из окна. Ноги не держали, и, будто молотками, с шумом стучала в висках кровь.
Он присел на корточки, а потом и вовсе опустился на пол. Еще раз взвизгнули и умолкли. Кусок какой-нибудь не поделили, решил он, утирая кативший по лицу пот. Ну, велел он себе, и, собравшись с силами, поднялся, и осторожно повел лезвие влево. Скрипнуло, ему показалось, на весь монастырь. Он замер, но рукоять по-прежнему держал крепко. Немного выждав, Сергей Павлович с бóльшим усилием отжал лезвие влево. Кирпич двинулся и одним краем чуть вышел наружу. Давай, давай, ободрил его и себя Серей Павлович и нажал еще. Теперь кирпич вылез из своего гнезда почти наполовину, и доктор, забыв про всякую осторожность, потянул его рукой. С оглушительным стуком упал на пол нож. Сергей Павлович коротко простонал – и от стука, и от всплеска головной боли. Но ему, по чести, было уже все равно, услышит ли какой-нибудь страдающий бессонницей или вышедший во двор по малой нужде монах звуки подозрительной возни в бывшем келейном доме или обратит внимание на пробивающийся со второго этажа слабый свет. Кирпич оказался в его руке. Он положил его на пол, заодно подняв нож, вытащил из кладки второй, опустил глаза, перевел дыхание и взглянул.
Был там.
Прошитый нитками желтый конверт средних размеров.
4
Он протянул руку и тут же, будто обжегшись, отдернул ее, после чего вышел в коридор, глянул и прислушался. Мрак и тишина по всему дому. Сергей Павлович вернулся и теперь уже твердой рукой извлек из ниши конверт, семьдесят лет назад положенный в тайник дедом Петром Ивановичем. Неимоверная усталость сразу же овладела им, словно он целую вечность, изнемогая, тащил непосильную для него тяжесть. Он прислонился плечом к стене, спиной к дверному проему, и даже голову, в которой не утихала боль, прижал к кирпичам кладки. Луна показалась в мутном окне, он ей шепнул: «Все». В ответ она тут же скрылась за облаками, и в бывшую келью отца Гурия снова поползла тьма. В руках у него был конверт, в конверте – завещание патриарха. Сколько сил он положил, чтобы найти его, и нашел, а сейчас ощущал себя, как после тяжелого суточного дежурства на «Скорой», опустошенным, ко всему равнодушным, с одним лишь желанием – добраться домой, упасть и заснуть мертвым сном. Сергей Павлович поразился. Где радость? Чувство победителя? Торжество поборника правды? Сознание исполненного долга? Он был пуст, немощен и подавлен. Руки, между тем, сами собой ощупали конверт, отыскали конец нитки и потянули ее. Она оборвалась, зато теперь конверт можно было легко открыть, что пальцы и сделали, отогнув клапан, забравшись внутрь и достав сложенный пополам лист бумаги. Сергей Павлович включил фонарь. Пожелтевшая страница оказалась перед ним, с поблекшей, когда-то синей машинописью. Он почему-то сразу глянул вниз, на подпись.
Смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России.
25 марта / 7 апреля 1925 года.
Дрожь потрясла Сергея Павловича Боголюбова. Он глубоко вздохнул и принялся читать, торопясь и быстро перебегая глазами со строки на строку:
Чада Мои, верные чада Святой Православной Российской Церкви!
Сие Мое последнее, действительное напутственное слово…
Дальше.
…по слабости моей пришлось пойти на уступки ради обещанных будто бы ослаблений и даже прекращения гонений на Православную Церковь.
Дальше.
…ожидать напрасно. До той поры, пока будет существовать ниспосланная нам Богом в наказание эта власть, Церковь будет подвергаться заушениям подобно тому, как заушали и мучили Ее Божественного Основателя.
Тут шорох послышался ему в коридоре. Он поспешно выключил фонарь и несколько минут, затаив дыхание, неподвижно стоял в темноте, но слышал лишь гулкие удары сердца и звенящую по всему дому тишину.
Но не только насилие, тюремные заключения и кровавые расправы власть обрушила на Церковь в своем стремлении уничтожить Ее.
Дальше.
В последнее время до Нас дошли верные сведения о намерениях безбожной коммунистической власти допускать к епископскому служению только проверенных и одобренных ею людей. О, да не будет! Если же таковое произойдет, то по праву, данному Нам Верховным Пастыреначальником – Господом и Богом и Спасом Нашим Иисусом Христом, руководствуясь Правилами Св. Апостол, Правило тридцатое, а также правилом третьим Святого Вселенского Седьмого Собора, Никейского, объявляю сих епископов – лжеепископами, иудами и слугами Антихриста, все совершенные ими епископские хиротонии, по-ставления в диаконский и пресвитерский чин, а также совершенные ими пострижения – не имеющими силы, недействительными и аки не бывшими.
Ибо от иуд благодать отщетивается. Ложь – семя дьявола, ложью и отступничеством не может быть сохранена Христова Церковь. Придет время…
Теперь Сергей Павлович совершенно ясно услышал шаги – сначала на лестнице, потом в коридоре, услышал жестяной грохот попавшейся кому-то под ноги банки и увидел яркий луч света. Он выключил фонарь и затаился. Придет время… А дальше?
Сильным светом вдруг озарилась келья отца Гурия с ее голыми стенами, темно-серыми от грязи стеклами окна, двумя железными койками и черной нишей на месте вынутых Сергеем Павловичем кирпичей. Доктор повернулся и, прикрыв глаза рукой, различил в черном дверном проеме две фигуры. Свет переместился чуть в сторону, и в одном он узнал чернобородого тракториста. Другой, высокий широкоплечий мужик в спортивном костюме, молча шагнул к младшему Боголюбову. И тракторист вслед за ним придвинулся ближе и вкрадчиво спросил:
– Ознакомился?
Сергей Павлович молчал, скованный ужасом.
– А теперь отдай, – услышал он и вслед за тем замертво сполз на пол от разламывающего голову удара.
5
На берегу пруда, под дубом, уже вырыта была довольно глубокая яма. Лопата добротной немецкой стали валялась рядом. Они доволокли тело Сергея Павловича Боголюбова до приготовленной ему могилы и, умаявшись, присели покурить.
– Тяжелый, – сплевывая, пробормотал тракторист.
– Мертвяк… – отозвался его напарник. – Они всегда такие. Бумагу-то взял?
– А как же! Нам с тобой, Витюня, за нее оклад светит, а то и два, и досрочное представление.
Докурив сигарету, Витюня поднялся и взял лопату.
– Жди больше, – сумрачно промолвил он. – Они себе и окладов навыпишут, и чины нарисуют. А нам – хер. Ну давай, вали его туда, я закопаю.
Ухватив тело доктора за ноги, тракторист подтащил его к краю ямы и, напрягшись, сбросил вниз. Сознание вернулось к Сергею Павловичу, он ощутил чудовищную боль в затылке, увидел тьму над собой и попытался позвать Аню.
– Ан… нн-я, – вместе с протяжным стоном вырвалось у него. Он хотел еще укорить ее: что же ты не идешь? Ты видишь, я умираю. Помоги мне. Но этих его слов не услышали ни небо над ним, ни земля, в которой он был погребен.
– Живучий, – удивился Витюня. – Ты, когда бил, небось, чуть смазал.
– Да вроде хорошо я бил. Я этим кастетом башки три проломил, не меньше. Ничего, сейчас поправим. – Из ватника, висящего на дубовом суку, он достал пистолет с длинным стволом и вернулся к яме. – Сейчас перестанет…
– Чудак. А чего ты туда его не взял? И кровищи было б меньше.
– В святую обитель да с оружием? Не положено. Посвети. – Он нагнулся и трижды выстрелил в Сергея Павловича: в грудь, туда, где сердце, и в залитую кровью голову. – Все. Мертвее не бывает. Давай, закидывай.
6
В интернате ждал его Саша и, не дождавшись, с новой силой проклял весь этот лживый мир и самого главного лжеца, сидящего где-то на небе и с усмешкой взирающего на мучения ни в чем неповинных людей.
С обидой думал Игнатий Тихонович, что уехал в свою Москву, даже не попрощавшись.
Ждал сына Павел Петрович, пил, плакал, звонил друзьям-газетчикам, умоляя, чтобы они узнали, где его Сережка.