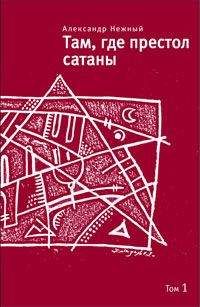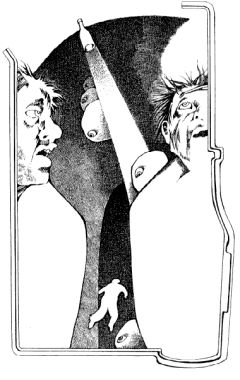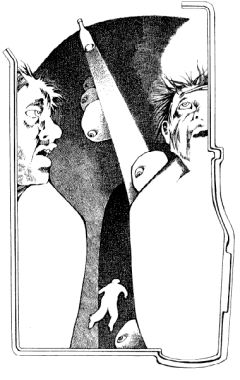Александр Нежный - Там, где престол сатаны. Том 2
Глава третья
Завещание
1
Как человек, только что поднявшийся после тяжелой болезни, слабыми ногами Сергей Павлович спустился по лестнице. Шум стоял у него в голове, будто рядом только что прогромыхал полупорожний товарняк. Игнатий Тихонович ему сопутствовал с выражением готовности в любой момент прийти на помощь.
– Вы уже встали?! – охнула дежурная, та самая Галина Павловна с круглым лицом и выщипанными бровями, которая в день, а вернее, утро приезда вручала Сергею Павловичу ключ от номера. – Вас вчера привезли чуть живого… Оленька, бедная, так убивалась! Ах, как все-таки не везет порядочным девушкам! А я еще подумала, не дай Бог, у нас в гостинице…
– Голубушка! – строго прикрикнул на нее Игнатий Тихонович. – Что вы такое мелете!
Неподдельное, искреннее, громкозвучное слово прозвучало им вслед.
– Я мелю! Девушка в номере почти всю ночь, категорически запрещено! Сам почти покойник! На ладан дышал! Милиция приезжала! «Скорая»! Александр Касьяныч! Когда это у нас такое было? Я мелю!
– Вы породили бурю, – выйдя на улицу, хладнокровно заметил Сергей Павлович.
Старичок Игнатий Тихонович махнул рукой и с непривычной резкостью изрек:
– Дура!
На том они расстались: Игнатий Тихонович тихим ходом двинулся по улице Розы налево, в свой деревянный двухэтажный с удобствами во дворе дом, в комнату, в которой он прожил долгую жизнь с Серафимой Викторовной, вытиравшей пыль с его письменного стола и вытряхивавшей из корзины с обеих сторон исписанные листы бумаги, черновики великой летописи о граде Сотникове и его жителях, или, что весьма вероятно, сменив в своей осиротевшей обители туфли на тапочки, неслышно прошел по коридору и поскребся в соседнюю дверь, каковая тотчас и распахнулась ему навстречу, истомленная ожиданием. Столь же тихим, но прискорбно-неверным ходом, пошатываясь и подумывая о самой простой, без затей вроде перламутровой рукояти, как у писателя и депутата, палке, к тому же та вообще была, кажется, из ореха, а ему бы сгодилась любая осина, Сергей Павлович направлялся к телеграфу, заранее волнуясь по двум, насколько он мог понять, причинам.
Прежде всего, сумел ли Цимбаларь передать Ане, что сегодня вечером, между девятью и десятью, а сейчас как раз приближалось к десяти, он будет звонить в Москву, и не перехватит ли его звонок, как это – увы – уже случалось, Нина Гавриловна с ее чрезвычайно недоброжелательным к нему отношением. Опять скажет металлическим голосом: ее нет. Он взорвался: прекратите меня мучить, меня вчера и так чуть не убили! Похоже, он произнес это вслух и довольно громко. Кроме того, его качнуло, и он припал плечом к стене дома. Встречный прохожий неодобрительно на него посмотрел и сошел с тротуара на мостовую. Зря. Ни в одном глазу даже в этот, весьма подходящий для возлияния час. И второе: следует ли ему в телефонном разговоре, неизбежно умаляющем доверительность собеседующих сторон хотя бы в силу их отдаленности друг от друга и невозможности почувствовать иногда трудно высказываемое, но что проскальзывает, например, в выражении глаз, в быстром движении бровей, в морщинке, вдруг появившейся на лбу, или в горестном дрожании подбородка, – так вот, с учетом всех этих обстоятельств следует ли покаяться перед Аней в своем чуть было не совершившемся грехопадении?
Он уже стоял в телефонной кабине, ждал, когда ответит Москва, трепетал при мысли о Нине Гавриловне и думал о сострадании, для него глубоко зарытом в ее привыкшем повелевать сердце. И вот после голоса, бездушно оповестившего, что Москва на линии, он услышал, наконец, тревожный, любящий, летящий к нему голос:
– Сережа? Сережинька?! Это ты?!
– Анечка! – не помня себя, закричал он и едва не охнул от прихлынувшей к вискам боли. – Это я! Я…
Она почувствовала.
– Что с тобой?! Ты болен? Что-нибудь случилось?
– Да ты что! – как мог искренне отвечал он. – Это связь, Анечка, она меняет… У меня тут все хорошо, замечательно, тут люди прекрасные… – Он мгновенно вспомнил Олю и решил: нет, не сейчас. Лицом к лицу надо каяться, а не через тыщу километров. – И я завтра…
– Я не слышу, Сережинька! Что завтра? Ты приедешь? Я тебя встречу обязательно…
– Анечка, послушай…
Сказав это, он тут же поймал себя на мысли, что слушать его могла не только Аня. Какой-нибудь прапор с наушниками, тупая похотливая скотина, магнитофон шуршит рядом, записывает все слова: ее и его. Сергея Павловича передернуло от бешенства.
– Сережа! – кричала из Москвы Аня. – Ты пропал… я тебя не слышу!
– Я здесь, я здесь, Анечка, не волнуйся! Мне бы только сегодня успеть одно дело, и завтра же я в Москве! Самое позднее – послезавтра утром!
– Да?
Отчаяние в ее голосе услышал он и закричал, обеими руками крепко схватив трубку:
– Анечка! Ты моя единственная… Ты не бойся ничего, слышишь?
– Я не боюсь, – покорно отозвалась она, но он-то угадывал, как сжимается ее сердце от недобрых предчувствий!
– Тут никто ничего не знает и ни о чем не догадывается… Сонное царство, ты себе представить не можешь! – самозабвенно сочинял он. – Тишайшее житье, мы с тобой вместе как-нибудь сюда обязательно приедем! Я о тебе рассказывал, тебя ждут. Я даже подумываю вообще сюда переселиться, на землю предков. Погоди малость, я вернусь, и мы с тобой это обсудим. А что нам, в самом-то деле, на Москве клин, что ли, сошелся? Речка дивная, вековые сосны над ней, луга… – Сергей Павлович хотел было завершить описание сотниковских красот белостенным монастырем, но вовремя спохватился. Упомяни Никольскую церковь, в которой служил дед Петр Иванович, Сангарский монастырь, и ее тотчас пронзит мысль о завещании, за которым он отправился в град Сотников и которое грозит ему бедой. – Благодать!
– Да? – недоверчиво сказал она.
– Вот увидишь! И не мучай себя напрасными страхами! Ты-то сама…
– Я тебя, Сережка, очень люблю и очень жду… Может, пока и не стоило бы, но я тебе все-таки один секрет выдам: мы, – с особым смыслом произнесла она, – тебя ждем.
– Ты, – догадываясь, но еще боясь верить, пролепетал он, – и Нина Гавриловна?
– Дурачок. Мы – это мы.
– Анечка! – вне себя завопил он на весь переговорный пункт, да, пожалуй, и на весь град Сотников. – Ты даже не представляешь… Мы с тобой – и он!
– Или она. Я еще не знаю.
– Ну пусть она, – великодушно согласился Сергей Павлович. – Это же наша с тобой будет дочка! И зовут ее знаешь как?
– Как?
– Анечкой ее зовут, глупая ты моя!
– Сережа! – вдруг предостерегающе молвила она, и он прямо-таки увидел, как сдвинулись ее брови на прекрасном чистом лбу. – Я тебя умоляю… Сережинька! Христом Богом прошу… Нашей жизнью! Младенцем, которого я ношу! Если там, куда ты собрался… если там… – Он слышал, как она давила в себе рыдание. – Оставь ты это, Сережа!
Он вдруг понял.
– Тебе звонили?
– Зиновий Германович мне звонил, – не сразу и неуверенно сказала она, – предупреждал…
– Я не про него, ты знаешь. Звонили?
– Сережинька, – уже не сдерживаясь, прорыдала она, – я тебя очень, очень прошу!
– Негодяи! – с ненавистью сказал он. – Тебя запугивать… Заставлять волноваться! Ах, негодяи! – Голову ему словно пронзили со всех сторон острые иглы. – Ты, – переведя дыхание, с усилием промолвил Сергей Павлович, – не должна… слушать… Ты постарайся быть спокойной. Еще немножко, Анечка… Я завтра пусть ночью, но приеду. И сразу тебе позвоню. И перед отъездом позвоню.
2
Тьма непроглядная обступила его, когда он двинулся к деревянному мосту через Покшу. Кое-где, однако, слабо горели уличные фонари, о которых, судя по всему, совершенно не радел забросивший городское хозяйство Роман Николаевич, более озабоченный возможностями продвижения по служебной лестнице, чем удобствами и безопасностью обывателей. Из темноты выступили и напали на него эти двое. Темнота злодеям родная мать. Ступеньку в гостинице не может поправить. Отпускать ли подобных субъектов с миром или отправлять на принудительные работы, пусть даже они будут премьерами или президентами: класть асфальт, устанавливать фонари, красить заборы, рыть могилы на кладбищах? С непрекращающейся головной болью и тяжелым осадком в душе после разговора с Аней Сергей Павлович безоговорочно выбрал второе. Больше того: чем выше должность и чем значительней, стало быть, вред, нанесенный ее своекорыстным, самоуверенным, бездарным и наглым обладателем, тем суровей должна быть его последующая участь. В духе николаевских времен он не отказался бы от шпицрутенов, которыми не худо бы пройтись по сытым спинам нынешних вельмож. Не жалеть каналий. Пусть ужасается полный восторгов после вальса с прелестной девушкой и грезящий о возможном с ней счастье случайный свидетель. Он увидел ужас девятнадцатого столетия. У нас на исходе двадцатое со своими представлениями о возможностях зла, не говоря уже о его пределах, которые в наши времена отодвинулись в какую-то необозримую даль. Мир испортился, о чем тут толковать. Возьмем хотя бы разум – он распоясался до отрицания всякой нравственности, в чем нас убеждают в буквальном смысле технологии изготовления человека, ставящие под сомнение величественную полноту заповеди плодитесь и размножайтесь и вложенное в нас соответственно ей влечение к любовному соитию, от какового из двух существ возникает третье, вроде того, как это произошло у Сергея Павловича с Аней, должно быть тогда, когда она первый раз осталась у него и до рассвета делила с ним ложе, громко сказано про старый раскладной папин диван.