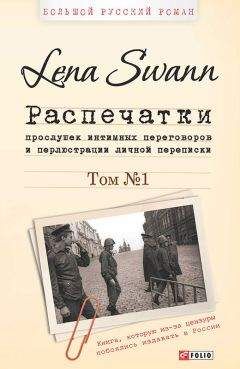Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
— Да я не собираюсь в геев кидать никаких камней! — орет Шломо. — У меня тоже полно знакомых геев! Никто в них вообще уже давным-давно никаких камней не кидает — быть геем же ведь не запрещено законом! Я первый пойду на баррикады, если кто-нибудь посмеет преследовать их по половому признаку! Но руки прочь от детей! Детей пусть не смеют трогать своим развратом и извращением! А разрешение геям усыновлять детей, чтобы они потом получили возможность этих детей развращать — или харассментом, или самим своим гейским образом жизни, который в девяноста девяти процентах случаев — безудержный разврат, — это уже преступление против человеческой морали, преступление против прав детей на чистоту, нравственность и целомудрие! — кричит Шломо.
Я говорю:
— А вот когда лет через десять тебя за такие слова на улице побьют как представителя гетеросексуального меньшинства и заставят уйти в подполье, как диссидента-натурала, ты еще вспомнишь сегодняшнюю Европу как кладезь морали!
— Нет, я просто изумляюсь! — кричит Шломо. — Почему никто еще из нормальных людей не додумался подать иск в Страсбургский суд по правам человека, оспаривая все эти гейские законы об усыновлении, и всю вообще эту наглую всемирную агрессивную гей-пропаганду, против которой уже никто не смеет возражать?! Почему никто не решится подать в Страсбургский суд по правам человека иск, отстаивая главное, фундаментальное право человека и ребенка: право на целомудрие и чистоту?! Чистоту и целомудрие, которые невозможны при геях-родителях! И при агрессивной гей-рекламе везде, при агрессивной гей-пропаганде! Я вообще убежден, что решать надо не вопрос о браках этих несчастных жертв насилия и харассмента в детском возрасте, каковыми являются большинство геев — а вопрос о немедленной полной физической кастрации насильников-педофилов — которые в подавляющем большинстве геи! Я знаю этот вопрос лучше, чем ты — я же здесь учился в университете! Я знаю от своих сокурсников обо всех этих ужасах английских закрытых школ для мальчиков! Это же инкубаторы для насильников-педофилов, которые с гарантией уродовали психику мальчиков и насильно превращали их из абсолютно нормальных юношей в мнимых гомосексуалистов! Это же трагедия, о чудовищных массовых масштабах которой до сих пор никто не решается по-серьезному-то говорить! Вот об этом надо говорить — а не плодить ту же самую проблему, разрешая несчастным инвалидам, каковыми являются жертвы таких вот катастроф, еще и усыновлять детей! Ты вспомни, вспомни публичное интервью этого несчастного Иена МакФадйена, этой жертвы педофилов-насильников из элитной школы для мальчиков в Бакингемшире, который первым решился на весь мир рассказать правду, уже будучи взрослым! Он же прямо говорит, что после изнасилования учителем-педофилом, он долгое время ошибочно считал, что он сам гей, у него произошел психический надлом, он вообще не понимал, что с ним происходит, начал принимать наркотики, искать контактов с другими мужчинами, находился в полусуицидальном состоянии — и только чудом выжил и вылечился и оказался никаким не геем, и живет в счастливом браке с прекрасной женой и пытается помочь теперь вот таким же, как он, жертвам. А таких историй, которые пытаются скрыть от огласки, было не десятки, а тысячи! И полиция, и правительства всех стран прячут такие случаи! А вспомни, как быстро замяли дело с этим вашим музыкантом-педофилом, который давно должен бы был уже сидеть в тюрьме! Поспорить готов, что девяносто девять процентов людей, считающих себя геями и лесбиянками, не имеют никакого врожденного генетического сбоя — это просто несчастные жертвы вот таких же вот изнасилований или преступных соблазнений в несовершеннолетнем возрасте со стороны взрослых! Нужно не гей-браки узаконивать, а немедленно принять общеевропейский закон о физической кастрации педофилов! Уверяю тебя: все проблемы решатся на раз! Даже не нужна смертная казнь — хотя я бы лично педофилов убивал сразу! А именно физическая кастрация, обрубить всё под корень — раз эти люди ничем больше в жизни не дорожат, кроме этого предмета!
Я говорю:
— Хорошо, Шломо, договорились. Вот этот автобус, — говорю, — тебе подходит? Никакой рекламы на борту!
На втором этаже автобуса, на переднем сидении, сидят две очень полные, очень прямоволосые, с очень ровными проборами с левого боку, очень похожие друг на друга девицы-англичанки, одинаково закинув ноги в одинаковых валенках Ugg на лобовое стекло и, попивая дешевый алкоголь из жестяных баночек, слушают, разделив по одному наушнику на каждую, музыку из одного плэйера, периодически подпевая, с одинаковыми винни-пуховыми модными диджейскими нотками на донце голоска.
— Веди себя как следует! — на сплющенном английском говорит маленькая кряжистая пожилая черненькая филиппинская бонна своему восьмилетнему английскому воспитаннику, сидящему на противоположной от девиц стороне. — Если ты будешь вести себя так же ужасно, как сегодня, то в следующую субботу я не возьму тебя есть мороженое в Харродз!
— I am Jesus Christ! — возражает в ответ тот, делая руками жесты волшебника в воздухе. — I am almighty! I can eat ice-cream every day!
Сзади них две старушки англичанки с энтузиазмом обсуждают какие-то животрепещущие проблемы — но я, как ни вслушиваюсь, все не могу понять о чем они.
— О чем вы говорите! — говорит, наконец, та, что сидит слева, у окна. — О чем вы говорите! — повторяет она, тряся головой. — Зачем же продукты хранить в морозилке?! Есть ведь магазин! Конечно у вас тратится огромное количество энергии ни на что! Я ни-ко-гда не пользуюсь морозилкой!
Рядом с нами рыжая англичанка с золотой стрекозой на шее вместо креста (из тех рыжих, у которых, по счастливой случайности, все коровистые красноватые крупные бесформенные веснушки сбежали с лица на невидную часть тела — на шею сзади, и плечи, и спину, — но которые как раз почему-то всегда любят ровно эту неприглядную, рыхлую у них почему-то всегда, с ноздреватой кожей, часть тела выставлять напоказ и носят майки с глубоким декольте) милуется с молодым волосатым пакистанцем:
— Скажи мне, ну скажи мне: что бы ты хотел, чтобы я тебе приготовила, когда мы придем домой?! — любвеобильно допытывается дама, беря его за руку. — Что ты любишь?! Скажи мне честно: что?! Хот-дог или бургер?! Хот-дог или бургер?!
— Neither, — мрачно отвечает паки с такой интонацией, как будто у него во рту бобы, и отворачивается в окно.
Я говорю, очень тихо:
— Шломо, пойдем, пожалуйста, обратно на первый этаж: здесь от кого-то ужасно разит духами…
— Ты же любишь духи?! — орет Шломо, хватаясь, при рывке автобуса, за рукоятку сверху.
— Я просто недавно узнала, что в них добавляют, — говорю (громко уже — решив, от нахлынувшего опять сонливого состояния: а чего стесняться?). — Не очень-то приятно, — говорю, — знать, что дамы, а то и некоторые мужики, мажутся мускусом, то есть выделениями желез убитых лосей и оленей, которые добавляют во все, оказывается, без исключения, французские духи!
Рыжая англичанка нервно оборачивается — и ревниво кладет рябую руку на шею пакистанцу с животной черной двойной дорожкой-елочкой волос к позвоночнику, приглаживая и почесывая крупные его угри.
— Бежим! — вдруг орет опять Шломо. — Вот! Вот! Мы проезжаем место, которое нам нужно! Дражайший! Подвиньтесь! — отодвигает он кондуктора уже на первом этаже — и, как только автобус тормозит в пробке, спрыгивает с открытой площадки, не оставляя мне другого выбора, как спрыгнуть вслед за ним.
На мелководье лужицы маленького неработающего фонтанчика, у входа в парк, скворцы, крылышкуя, принимают душ шарко, после этого вспархивают и радостно, хулиганисто скрежещут всеми своими скворечными словцами, как маленькие летучие граммофончики. Черемуховый голубь, в ярко-карминных чистеньких черевичках и голубых панталонах, с грацией италийских фресок делает книксен, чтобы напиться, всплескивает ручками, и был таков.
— Ну и где здесь твоя синагога? — спрашиваю. — Никакой тут синагоги рядом с Кензингтонским дворцом не видно.
— Не видно, значит будет видно, — недовольно комментирует Шломо. — Что я, виноват что ли…
Рядом с дворцом какие-то строительные оранжевые выгородки, рабочие что-то копают.
— Наверняка здесь какой-нибудь луна-парк построят — вместо дворца, — ворчит Шломо. — Бедная Европа гибнет! Надо у кого-нибудь все-таки спросить…
Забравшись с ногами на лавочку, с торца дворца, пожилой бородатый бомж с достоинством делает себе педикюр.
— Дражайший! — вопит Шломо, подскакивая к нему. — Дражайший, вы не знаете ли где тут…?! Нет, вы, пожалуй, не знаете…
Я думаю про себя: а прилягу-ка я лучше вон под той цветущей вишней, которую приметила еще при входе в парк. Ни слова не говоря Шломе, чисто на правах сонной сомнамбулы, дрейфую к роскошному дереву — но Шломо почему-то все-таки тащится за мной: видимо, решив, что у меня есть идеи насчет маршрута.