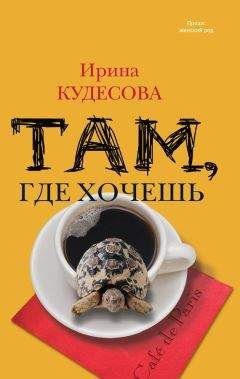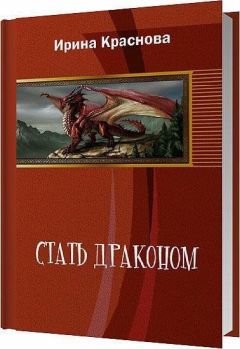Однажды осмелиться… - Кудесова Ирина Александровна
Оленька дернула тяжелую дверь и оказалась в знакомом узком коридорчике — суковатая палка: сучок справа — бухгалтерия, чуть дальше слева — дирекция, еще дальше справа — нора Хомяка. Оленька стукнула в бухгалтерию.
Бухгалтерша с неизменной бледно-рыжей химией ела беляш, откинувшись в кресле.
— Олечка! Сколько зим! Ну как малыш?
Оленька рассказала немножко. У бухгалтерши на подбородке осталось масляное пятно от беляша, но Оленька не решилась сказать об этом. Она взяла деньги и спросила:
— А Кэтрин здесь?
Конечно, Кэтрин была тут, конечно.
Оленька дошла до их комнаты, там никого не оказалось. На своем столе она увидела ворохи бумаг и подумала, что новая корректорша никуда не годится. У Кэтрин на столе ничего не лежало, только пузатый очечник и ручка. «Наверно, только притопала», — подумала Оленька и положила на край зонтик. А когда выходила, столкнулась в дверях с молоденькой девочкой.
— Извините, — девочка села за Оленькин стол, — вам кого?
— Не знаете, где Кэтрин? — спросила Оленька вежливо, поймав себя на мысли, что здороваться с малолеткой неохота.
— Она вышла покурить.
— Спасибо.
Кэтрин курила, как правило, когда психовала. «Что у нее еще стряслось? — Оленьке пришло в голову, что Кэтрин поругалась с мужем. Скажу ей, что в ее положении о куреве забыть надо». Оленька почувствовала себя зрелой, опытом умудренной.
Она заглянула в курилку, но там никого не было. За окном совсем посерело, и комната походила на склеп. В окне Оленька увидела Кэтрин: та сидела на качелях посреди пустой детской площадки с сигаретой в руке. Похоже, вышла, пока бухгалтерша выспрашивала про ребенка.
Оленька остановилась у окна.
Кэтрин вглядывалась в небо, задрав подбородок. Лицо у нее ничего не выражало. На ней был ее черный плащик, как обычно, туго стянутый поясом, отчего нижняя часть плаща походила на убогий кринолин. Кэтрин не двигалась, просто сидела и смотрела вверх, окаменевшая, как статуя. Потом по стеклу, прямо у Оленьки перед глазами, саданула первая косая капля. Кэтрин поднялась, отбросила сигарету и направилась к крыльцу.
Оленька слышала, как стихли в конце коридора шаги. Немного погодя она пересекла совсем потемневшую комнату, толкнула неподатливую дверь и пошла домой под дождем.
Часть вторая
ОЛЕНЬКА
1
— Кто ее спрашивает?
Будто он не знал кто. Стоял в передней перед зеркальной дверью шкафа с телефоном в руке. Зеркало отражало усталую физиономию. Усталая физиономия, и на полу — белый детский носочек.
— Ах с работы… А вы в курсе, сколько времени? Будьте любезны, после одиннадцати звоните ей только на мобильный.
Вот так смотришь в зеркало и чувствуешь себя дерьмом. Полным дерьмом.
— Не отвечает? А что вы от меня-то хотите? Ее нет.
Твою жену зовет к телефону хам, с которым она путается, и ты прикидываешься, что раздражен из-за позднего звонка.
А что еще делать? Дуэль? «Господин Главный редактор, или как вас там, пожалуйте к барьеру». У Степки как раз пара пистолетов завалялась, палят пластмассовыми шариками. Довольно больно. Можно на сабельках из фольги поупражняться.
Четвертый месяц абсурд этот длится. Хотя что тут абсурдного? Будто он не знал, что сбежит она, поздно, рано ли. Выходит, что не так и рано оно все закрутилось. Степке скоро пять.
Забыла в сумке мобильный, ускакала к Алене. Сидит там третий час. Она или является после полуночи, или у Алены торчит. Иного не дано. А мобильный весь вечер — тирлинь-тирлинь — придушенно. Если сейчас зазвонит — ответить.
Сказать: встретимся, что ли, Главный редактор? А, Николай Сергеич?
Откажется — значит, трус. Значит, дела ему до Ольки нет. Согласится…
Тирлинь-тирлинь.
Дернуть «молнию» на сумке, нырнуть рукой в нутро, тирлинь-тирлинь звонко выплескивается. Где ж этот телефон… Пальцы шарят во внутренностях: ручка, кошелек, блокнот, платочки бумажные, упаковка лекарства, флакончик духов (сам выбирал). Тирлинь-тирлинь, еще чуть-чуть — и автоответчик включится. Подхватить неловкими пальцами: маленький дамский телефончик, скользкая рыбешка, вырывается, переливается, верещит.
Смелость это или отчаяние?
— Алло.
В телефончике, в серебристой рыбешке, — замешательство. Но трубку не бросили.
— Простите? Я думал, что на мобильный звоню. На сей раз.
Удивительное дело. Голос спокойный. Низкий, можно сказать, красивый голос, но главное — твердый. «На сей раз», — с такой дружественной усмешкой. Мол, не хотел более беспокоить, прости великодушно, брат, ошибся. Этот тип будто в дом к кредитору звонит, а не к человеку, у которого рога скоро под шапку не влезут. По его милости. А вот ему, Володе, не по себе.
— На сей раз — на мобильный. Ольги нет… Слушайте… Я знаю… Я хотел бы…
В серебряном телефончике тишина, но она наполнена чем-то. Чем только, не понять.
— Я встретиться хотел бы. С вами.
Пауза. Никак на том конце думают — пойти сохатому навстречу или вышутить его.
Затем — ровное:
— Хорошо. Завтра я буду в редакции, скажем, в половине третьего. К трем уже народ начнет подтягиваться. Полчаса устроит?
— Да.
Пауза.
— Ее действительно нет. Она у подруги, на другом этаже.
— У Алены?
Осведомлен, черт. Или это демонстрация силы? «Знаем мы все про подруг, и какой кафель у вас в сортире, тоже в курсе. Наблюдали». Чего ж ему теперь церемониться. Карты на столе, король-дама-валет.
— Вы хорошо информированы.
Еще одна короткая пауза. Самое время завестись и затеять перепалку.
— До завтра.
Не успел ответить — трубку положили.
2
С Аленой Оленька познакомилась во дворе — гуляла со Степой, а Алена вывезла на коляске Юлю. Алена шла по тротуару со скоростью задумавшейся черепахи, смотрела в небо. Коляска — пузатая сиреневая, увешанная рябящими в глазах финтифлюшками, мечта младенца, — катилась, подцепив на колесо невесть откуда взявшийся жухлый лист.
Оленька заулыбалась Алене издалека — мамаши, чад выгуливающие, популяция особая, они быстро сходятся, у них всегда есть тема для разговора, они нужны друг другу. Им скучно. Оленька скучала не меньше прочих, и даже больше: дом был новый, полупустой, и рядом стояли два подобных; гулять приходилось порой в полном одиночестве. Степа страдал в первую очередь. Ему было невесело до такой степени, что, завидев сиреневое чудо на колесиках, он бросился к нему, непонятно на что надеясь. Вдруг оно явит нечто говорящее, способное кататься с горки?
Алена не видела ни Оленькиных приветственных улыбок, ни топавшего навстречу Степана. В коляске поверх одеяла лежал листок бумаги и карандашик. Маленький карандашик из ИКЕА. Алена сочиняла стихи.
Когда стихи лились легко, она бросала все, недопеленывала Юльку, картошку варившуюся забывала на плите, и они шли трещинами в высохшей кастрюльке: злые жгучие картошины. Потом Юлька допеленывалась, картошка стыла: Алена бродила с улыбкой блаженной, ждала, когда можно будет перечитать. Сразу никогда нельзя, надо отстраниться, чужие глаза нацепить, отвлечься, отвыкнуть от текста. Стихи она никому не показывала. Вообще никому. Потому что если окажется, что нехороши они… Нет, лучше подождать еще три года. Как тридцать стукнет, она соберет самые лучшие и отправит в какой-нибудь толстый журнал. И тогда все выяснится. Тридцать лет — рубеж: начало нового, старому конец. Или дальше идти, в новом качестве, или — уже больше никогда ни строчки, никогда.
Алена катила мягко покачивавшуюся на рессорах коляску, Юлька посапывала, по небу ползло растрепанное, будто со сна, облако, и Алена пыталась приручить этот образ — облако, задремавшее над океаном и проснувшееся над уродливыми городскими высотками: изумленное, спешащее прочь. И Оленька прошла бы мимо этой странной блондиночки, и не случились бы полночные посиделки на Алениной кухне на головокружительной высоте двадцать первого этажа, и разговоры, и все-все, если бы Степа не вцепился в край сиреневой коляски с криком: «Кто в теремочке живет?» — Алена очнулась, Оленька схватила Степу, Юлька захныкала, а Степан, обесенев, заладил страшным голосом: «Хомяк! Хомяк!» — и пытался запустить пятерню в коляску.